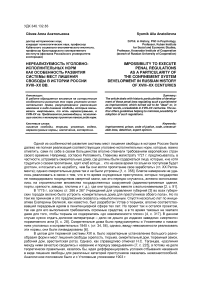Нереализуемость уголовно-исполнительных норм как особенность развития системы мест лишения свободы в истории России XVIII-ХХ вв.
Автор: Смик А.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
В работе обращается внимание на исторические особенности развития тех норм уголовно-исполнительного права, регулировавших реализацию наказания в виде лишения свободы, которые оказывались «мертвыми», то есть нереализуемыми, в XVIII-XX вв. Предлагаются рекомендации, позволяющие свести к минимуму принятие такого рода норм.
Лишение свободы, тюрьма, уложение, кодекс, нереализуемые нормы, заключение, экспертиза
Короткий адрес: https://sciup.org/14938711
IDR: 14938711 | УДК: 340.132.83
Текст научной статьи Нереализуемость уголовно-исполнительных норм как особенность развития системы мест лишения свободы в истории России XVIII-ХХ вв.
Одной из особенностей развития системы мест лишения свободы в истории России была далеко не полная реализация соответствующих уголовно-исполнительных норм, которые, важно отметить, сами по себе в своем большинстве вполне отвечали требованиям европейских стран своего времени. Например, согласно Регламенту, Главному магистрату 1721 г. предписывалось, в частности, устраивать смирительные дома, где должны были содержаться лица, которые, «не хотя трудиться о своем пропитании, ядят хлеб вотще… кто на какое время по злым их поступкам будет достоин, и посылать их на работу, чем бы они могли пропитание свое заработать» (гл. ХХ Регламента); однако смирительные дома так и не были устроены [1, с. 358]. Благое намерение не удалось реализовать в связи с тем, что в то время осужденные преступники, которых государство не ликвидировало посредством смертной казни, как это нередко случалось, активно использовались на строительстве множества государственных сооружений (административные здания, порты, крепости, заводы, плотины и т. д.), где они трудились вместе с вольнонаемными [2, с. 91].
В 1775 г. согласно ст. 266 и 267 Учреждений для управления губерний [3] во всех губернских городах велено было устроить «смирительные дома для преступников обоего пола». Но по тем же причинам и это предписание оказалось невыполненным. Спустя несколько лет по инициативе Екатерины Великой, как известно, был разработан Устав о тюрьмах, вполне соответствовавший передовым идеям в пенитенциарной сфере тех лет. Но проект так и остался проектом, так как для его выполнения требовались огромные средства, а в то время таковых не хватало даже для того, чтобы тюрьмы не содержались «до невозможности плохо» [4, с. 317]. В данном случае нужно отдать должное императрице – дело не дошло до издания заведомо «мертвого» нормативного акта [5, с. 28]. Смирительные дома были предусмотрены и Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (ст. 34, 56), однако, ввиду невозможности реализовать эти нормы, они были ликвидированы [6].
В целом для тюремной системы XIX в. было характерным установление большого разнообразия форм и мест лишения свободы (крепость, тюрьма, смирительный дом, тюремный замок, рабочий дом, арестантская рота). Однако, как справедливо отмечал Н.С. Таганцев, «различия между ними зачастую сводились к названию и порядку заведывания» [7, с. 225], а потому на деле теоретически правильная, казалось бы, идея дифференцировать условия отбывания наказания в виде лишения свободы для различных категорий преступников оказалась нежизнеспособной. Аналогичное положение было и с Уголовным уложением 1903 г.
Не извлек уроков и законодатель начального периода советской власти. Согласно ст. 46 Исправительно-трудового кодекса (ИТК) РСФСР 1924 г., места заключения имели широкий перечень разных видов: «1) дома заключения; 2) исправительно-трудовые дома; 3) трудовые колонии – сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные; 4) изоляторы специального назначения; 5) переходные исправительно-трудовые дома». Отдельными были перечни учреждений для применения мер социальной защиты медико-педагогического характера, мер социальной защиты медицинского характера [8, с. 358]. После объявления «слома царской тюремной системы» материальная база учреждений исполнения наказания в виде лишения свободы находилась в критическом состоянии [9, с. 36]. То же касалось и персонала. На что рассчитывал законодатель, принимая такие нормы в условиях экономического кризиса? Увы, здесь верх взяла не наука, а идеология. ИТК РСФСР 1933 г. [10] несколько приблизил соответствующие законодательные положения к действительности, но ненамного [11, с. 184].
Позднее ИТК РСФСР 1970 г. при всех его недостатках представил собой правовой акт, который в наибольшей степени отвечал реальной ситуации в исправительно-трудовой системе [12, с. 65]. Но и здесь не обошлось без норм, которые оставались лишь декларативными. Примером может служить статья 37 кодекса, согласно которой «производственно-хозяйственная деятельность исправительно-трудовых учреждений должна быть подчинена их основной задаче – исправлению и перевоспитанию осужденных». На практике, как известно, для исполнительно-трудовых учреждений (ИТУ) сверху спускали директивные планы производства, и их выполнение являлось главным критерием оценки деятельности ИТУ. При таких условиях требования указанной нормы повсеместно игнорировались [13, с. 14, 77].
Новое уголовное законодательство Российской Федерации (УК РФ 1996 г.) и уголовно-исполнительное законодательство (УИК РФ 1997 г.), сделав, безусловно, существенный шаг вперед, все же не устранило ставшие уже хроническими недостатки, связанные с закреплением неработающих норм. В связи с этим в первую очередь следует назвать введение наказания в виде ареста (ст. 44, 54 УК РФ, ст. 16, 68–72 УИК РФ). Отлагательная норма, предусматривающая введение положений о наказании в виде ареста по мере создания необходимых условий, принципиальной роли, по сути дела, не сыграет, поскольку в России продолжается экономический кризис, уголовно-исполнительная система работает с предельным напряжением, с огромным трудом поддерживая жизнеобеспечение действующих учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Более того, их материальная база, не обновляясь, с каждым годом ухудшается, и только для ее восстановления, не говоря уже о строительстве новых учреждений, потребуются большие средства.
О нереализуемости норм об аресте неоднократно говорилось на многих уровнях при обсуждении проектов уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Однозначно против в свое время высказалось и Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) МВД России [14, с. 77]. Однако и на этот раз верх взяли теоретики. В числе других нереализуемых положений можно назвать также нормы о предпринимательской деятельности осужденных в виде ТОО (приказ МВД России от 30.11.1993 г. № 517).
Как видно из вышеперечисленного, в России прослеживается негативная тенденция принятия нормативных актов, которые заведомо невыполнимы [15, с. 68]. В нашем случае это касается актов, связанных с исполнением наказаний в виде лишения свободы, в которые закладываются заведомо невыполнимые нормы, в результате чего усиливается противоречивость развития уголовно-исполнительной системы. Как правило, это объясняется необходимостью улучшения положения дел в пенитенциарной сфере и учета международных принципов, а также перспектив [16, с. 95]. Однако такое, само по себе нужное стремление раз за разом не учитывает экономических возможностей и трудовых ресурсов (численность и квалификацию персонала), которые в России есть и были всегда ограниченны. Общую ошибку законодателей – реформаторов в тюремной области И.Я. Фойницкий выразил так: «У нас ставилась широкая задача насадить сразу и общим образом для всего государства улучшенную систему мест заключения; в результате оказалось, что это сопряжено с огромными практическими трудностями, и работы множества комиссий по этому предмету… остались безо всяких следов» [17, с. 317].
Необходимо отметить, что экспертиза проектов соответствующих нормативных актов должна быть всесторонней и включать более тщательную проработку экономических и организационных возможностей их реализации. Ведь теоретически любая идея, любая концепция выглядит привлекательно; только вот практика, как показывает многовековый опыт, приемлет далеко не все. В литературе справедливо указывается на необходимость более четкого определения целей наказания [18, с. 45], поскольку без этого нельзя говорить о качественном регулировании методов государственного принуждения по его исполнению [19, с. 58]. Закон по сути своей должен отражать фактически сложившиеся общественные отношения в определенной сфере жизни. Закон должен работать сегодня, сейчас. Что касается перспективы, то сведения об этом должны быть не в нормах права. Это не значит, однако, что закон вообще не должен содержать «перспективных» норм (здесь речь идет о законах, связанных с организационно-материальной деятельностью в общегосударственном масштабе). Они могут быть, но расчет при этом следует делать не на далекое или неопределенное будущее, а на ближайшие годы. Также корректен вариант, когда условия исполнения некоторых норм оговариваются в общих положениях закона (например, ст. 3 УИК РФ).
В некоторых случаях, очевидно, весьма полезным может оказаться эксперимент, – подобный опыт в нашей стране имеется. В свое время (середина 1980-х гг.) в некоторых регионах апробировалось льготное исчисление сроков лишения свободы осужденных за высокие показатели в труде. Его проведение показало, что эта заманчивая идея не может быть реализована в силу недостаточных организационных возможностей исправительных учреждений и по некоторым другим причинам. Ситуация прояснилась, и в закон не попала очередная «мертвая» норма.
Придет время, российская экономика укрепится, тогда встанет вопрос и о арестных домах для исполнения наказания в виде ареста, и о других новейших достижениях в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы. В этих условиях законодателю и нужно принимать соответствующие нормы – такие, в реализуемости которых не возникнет никаких сомнений.
Ссылки:
-
1. Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого, в связи с реформой. М., 1891.
-
2. Упоров И. Первое законодательное закрепление тюремного заключения как наказания в российском праве // Государство и право. 1998. № 9. С. 91.
-
3. Учреждения для управления губерний // Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 5. М., 1987.
-
4. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889.
-
5. Агафонов Ю.А., Упоров И.В. Историческое развитие уголовного права России : учеб. пособие. М., 2003. С. 28.
-
6. Упоров И.В. Законодательное регулирование и особенности института ссылки в Российской империи второй поло
вины XVIII в. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 112–115.
-
7. Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Вып. IV. СПб., 1892.
-
8. ИТК РСФСР 1924 года // Сборник документов по истории уголовного права СССР и РСФСР 1917–1952 гг. М., 1959. С. 182–193.
-
9. Упоров И.В. Развитие уголовного наказания в первые годы советской власти // Уголовное право. 2000. № 4. С. 36.
-
10. ИТК РСФСР 1933 года // Сборник документов по истории уголовного права СССР и РСФСР 1917–1952 гг. С. 367–378.
-
11. Упоров И.В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенциарной политики России в XVIII–ХХ вв. : дис. … д-ра ист. наук. Краснодар, 2001. С. 184.
-
12. Упоров И. От понятия «мздоимство» к понятию «взятка» // Российская юстиция. 2001. № 2. С. 65.
-
13. Перегудов А.Г. Качественное состояние общности осужденных – основной концептуальный вопрос перестройки деятельности органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы // Проблемы перестройки деятельности органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Уфа, 1991.
-
14. Курдюк П.М., Упоров И.В., Акопян А.В. Преступность как социально опасное явление и государственное принуждение как метод его нейтрализации. Краснодар, 2007. С. 77.
-
15. Старков О.В., Упоров И.В. Теория государства и права / под общ. ред. О.В. Старкова. М., 2012. С. 68.
-
16. Упоров И., Городенцев Г. Понятие присвоения и растраты вверенного имущества в уголовном праве России // Уголовное право. 2004. № 4. С. 95.
-
17. Фойницкий И.Я. Там же. С. 317.
-
18. Упоров И. Целеполагание отдельных видов наказания в российском уголовном праве // Уголовное право. 2001. № 3. С. 45.
-
19. Грошев А.В., Упоров И.В. Уголовное право России. Общая часть. Краткий учебный курс. Ростов н/Д., 2006. С. 39.
Список литературы Нереализуемость уголовно-исполнительных норм как особенность развития системы мест лишения свободы в истории России XVIII-ХХ вв.
- Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого, в связи с реформой. М., 1891.
- Упоров И. Первое законодательное закрепление тюремного заключения как наказания в российском праве//Государство и право. 1998. № 9. С. 91.
- Учреждения для управления губерний//Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5. М., 1987.
- Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889.
- Агафонов Ю.А., Упоров И.В. Историческое развитие уголовного права России: учеб. пособие. М., 2003. С. 28.
- Упоров И.В. Законодательное регулирование и особенности института ссылки в Российской империи второй половины XVIII в.//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 112-115.
- Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Вып. IV. СПб., 1892.
- ИТК РСФСР 1924 года//Сборник документов по истории уголовного права СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М., 1959. С. 182-193.
- Упоров И.В. Развитие уголовного наказания в первые годы советской власти//Уголовное право. 2000. № 4. С. 36.
- ИТК РСФСР 1933 года//Сборник документов по истории уголовного права СССР и РСФСР 1917-1952 гг. С. 367-378.
- Упоров И.В. Исторический опыт формирования и реализации пенитенциарной политики России в XVIII-ХХ вв.: дис.. д-ра ист. наук. Краснодар, 2001. С. 184.
- Упоров И. От понятия «мздоимство» к понятию «взятка»//Российская юстиция. 2001. № 2. С. 65.
- Перегудов А.Г. Качественное состояние общности осужденных -основной концептуальный вопрос перестройки деятельности органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы//Проблемы перестройки деятельности органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Уфа, 1991.
- Курдюк П.М., Упоров И.В., Акопян А.В. Преступность как социально опасное явление и государственное принуждение как метод его нейтрализации. Краснодар, 2007. С. 77.
- Старков О.В., Упоров И.В. Теория государства и права/под общ. ред. О.В. Старкова. М., 2012. С. 68.
- Упоров И., Городенцев Г. Понятие присвоения и растраты вверенного имущества в уголовном праве России//Уголовное право. 2004. № 4. С. 95.
- Фойницкий И.Я. Там же. С. 317.
- Упоров И. Целеполагание отдельных видов наказания в российском уголовном праве//Уголовное право. 2001. № 3. С. 45.
- Грошев А.В., Упоров И.В. Уголовное право России. Общая часть. Краткий учебный курс. Ростов н/Д., 2006. С. 39.