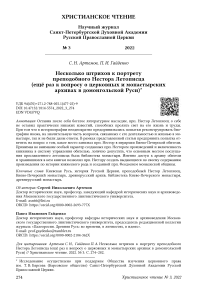Несколько штрихов к портрету преподобного Нестора Летописца (ещё раз к вопросу о церковных и монастырских архивах в домонгольской Руси)
Автор: Артемов Сергей Николаевич, Гайденко Павел Иванович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 3 (102), 2022 года.
Бесплатный доступ
Оставив после себя богатое литературное наследие, прп. Нестор Летописец о себе не оставил практически никаких известий, способных пролить свет на его жизнь и труды. При том что в историографии неоднократно предпринимались попытки реконструировать биографию инока, на значительную часть вопросов, связанных с его деятельностью и жизнью в монастыре, так и не были даны ответы. В рамках представленной статьи предпринята попытка ответить на вопрос о том, какое место занимал прп. Нестор в иерархии Киево-Печерской обители. Принимая во внимание особый характер созданных прп. Нестором произведений и включенность книжника в систему управления обителью, логично допустить, что основным местом послушания прославленного летописца была библиотека монастыря. Именно доступ к архиву обители и хранившимся в нем книгам позволил прп. Нестору создать выдающиеся по своему содержанию произведения по истории княжеского рода и созданной прп. Феодосием монашеской общины.
Киевская русь, история русской церкви, преподобный нестор летописец, киево-печерский монастырь, древнерусский архив, библиотека киево-печерского монастыря, древнерусский монастырь
Короткий адрес: https://sciup.org/140295644
IDR: 140295644 | УДК: 94(470)+271.2-788-055.1(477-25)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_3_274
Текст научной статьи Несколько штрихов к портрету преподобного Нестора Летописца (ещё раз к вопросу о церковных и монастырских архивах в домонгольской Руси)
Образ прп. Нестора Летописца — один из самых узнаваемых и почитаемых в русской истории. Во многом этому способствовали университетская и духовноакадемическая среда второй половины XIX в., главным образом Киева, где именем преподобного было названо историческое общество, собравшее в своем кругу целую плеяду выдающихся историков1 и издававшее свой научный сборник2, а прот. Николай Флоринский составил объемную брошюру, воспевшую труды прп. Нестора [Флоринский, 1886]. Не менее идеализированным оказался образ святого летописца и в русском искусстве, в котором сформировался вполне устойчивый канон изображения этого первейшего в отечественной истории летописца, как правило, рисуемого сидящим за книгами3. В итоге стараниями нескольких поколений ученых и деятелей различных искусств прп. Нестор стал восприниматься в обществе в качестве своего рода молитвенного покровителя историков4.
Традиционно и обоснованно отечественная историография связывает прп. Нестора и его труды с Повестью временных лет, а также с ранней русской агиографией. Устойчивость этого представления такова, что ее не смогли поколебать даже исследования А. А. Шахматова, убедительно показавшего, что формирование летописного текста продолжалось на протяжении жизни нескольких поколений его составителей и редакторов, представлявших различные обители, и сопровождалось внесением в повествование многочисленных изменений, приводивших даже к формированию новых редакций5.
Таким образом, прп. Нестор — наиболее известный летописец Древней Руси, а его образ остается одним из самых узнаваемых среди прославленных в лике святых монахов.
Тем не менее приходится признать, что о личности и о трудах преподобного летописца известно крайне мало. Если все же какие-либо сведения и просматриваются, то преимущественно не в прямых указаниях об этом иноке, а в оставленном им литературном наследии или, по меньшей мере, в работах, которые связываются с его именем. Сам прп. Нестор рассказал о себе немногое, сообщив лишь, что был принят и пострижен самим прп. Феодосием. Со временем книжный монах сподобился диаконского сана, на что особо обращал внимание Е. Е. Голубинский [Голубинский, 1997, 748]. Происхождение прославленного инока темно. Нет ясности и относительно выполнявшихся им в обители послушаний. О должностях и о трудах в монастыре прп. Нестора едва ли можно что-то сказать уверенно и определенно. Предпринятые Ю. А. Артамоновым усилия по созданию своего рода биографии выдающегося книжника-подвижника — наверное, самые успешные из тех, что осуществлялись ранее. Однако и это исследование аккуратно обошло ряд проблемных для изучения сторон жизни первого русского книжника. Несомненно, основной труд жизни прп. Нестора был связан с созданием целого ряда произведений, впоследствии вошедших в золотой фонд русской культуры. Однако, принимая во внимание особенности организации монастырской жизни, необходимо признать, что не все в историографическом образе прп. Нестора так однолинейно и просто. Крайне сомнительно, чтобы вся жизнь славного подвижника оказалась связанной исключительно с созданием одной лишь Повести временных лет и трех-четырех существенно меньших по объему произведений. Наверняка прп. Нестор был вынужден нести и иные послушания. Однако возникает вопрос: какие именно? Собственно, поиску ответа на сформулированный вопрос и посвящена данная статья.
Почему так важно разобраться в этом? Приступая к изложению проблем текстологии, Д. С. Лихачев совершенно обоснованно посвятил первую главу своей «Текстологии» описанию работы древнерусского книжника как такового. Первые два параграфа отмеченной главы так и называются: «Общие замечания о работе древнерусского книжника» и «Процесс письма» [Лихачёв, 2001, 62-65]. Обращая внимание на эту антропологическую сторону работы первых русских «писателей», Дмитрий Сергеевич резонно заметил, что «нет текста вне его создателей», а несколькими строками ниже уточнил: «Текстология имеет дело прежде всего с человеком, стоящим за текстом. И чем конкретнее окажется этот человек, чем больше у него будет индивидуальных особенностей, отложившихся в тексте, тем достовернее выводы текстолога» [Лихачёв, 2001, 62]. Именно поэтому крайне важным видится понять, в каких условиях трудился преподобный летописец, откуда он черпал свои знания, кем был привлекаем к составлению столь важных для современников сочинений, как ему удавалось сочетать «литературный» труд с крайне сложным и напряженным ритмом жизни обители, в котором, в условиях натурального хозяйства монастыря, книжная премудрость едва ли обладала безусловной ценностью.
Число специальных работ, посвященных непосредственно прп. Нестору и при этом заслуживающих внимания, невелико. Оно ограничивается небольшим числом публикаций, среди которых особо ценными видятся замечания и наблюдения митр. Макария (Булгакова), Е. Е. Голубинского, М. Д. Присёлкова, а также специальные статьи О.В. Творогова [Творогов, 1987], Ю.А. Артамонова [Артамонов, 2018, 77-86] и А. Карпова [Карпов, 2017, 309–313]. Последние особенно интересны и с источниковедческой, и с историографической сторон. И все же, невзирая на отмеченную малость, выделенный корпус исследований ценен преимущественно тем, что позволяет получить вполне ясное представление о литературном наследии летописца. И Повесть временных лет в этом наследии, при всей дискуссионности вопросов, связанных с определением части, которая принадлежит прп. Нестору, занимает первое место [Мюллер, 2005].
Такое устойчивое акцентированное внимание к «литературной» стороне деятельности прп. Нестора объясняется состоянием и содержанием источников, так или иначе связанных с именем преподобного. Как уже обращалось внимание выше, сам книжник предпочел умолчать о своем прошлом и трудах, а число упоминаний о прп. Несторе невелико и по объему, и по содержанию. Более того, большинство из них сообщают не столько о самом летописце, сколько о тех историях и трудах, к которым он был причастен. Именно так прп. Нестор предстает перед читателями в послании инока Поликарпа к архим. Акиндину6 или же в авторском сообщении о своей причастности к созданию жития прп. Феодосия7. Лишь дважды имя прп. Нестора упоминается в контексте его повседневной жизни в монастыре.
Так, в Слове 7 Печерского патерика, а именно в «Сказании о том, почему монастырь был прозван Печерским», принадлежащем перу самого преподобного, знаменитый книжник с благоговением вспоминает о своем приходе в обитель и о роли прп. Феодосия в жизни монастыря и самого прп. Нестора8. Второй раз образ прп. Нестора явлен читателям Патерика в рассказе о прп. Никите. На этот раз книжник предстает в качестве члена совета старцев (геронтов) Печерской обители, пришедших к прп. Никите, заподозренному в прелести [Киево-Печерский патерик, 2004, 395; Оспенников, 2020, 202–214].
В итоге в науке возникла ситуация, при которой в трудах исследователей доминирует интерес к «литературной» стороне трудов прп. Нестора. Такой интерес обнаруживается в сочинениях митр. Макария (Булгакова), а именно в его «Истории Русской Церкви», в которой история первого русского летописца была вписана в рассказ об обширном лике печерских святых [Макарий Булгаков, 1995, 202-207], в научных поисках Д. Абрамовича [Абрамович, 1901], в наблюдениях Е. Е. Голубинского, во многом повторившего и подытожившего выводы своих предшественников, а также в исследованиях А. А. Шахматова, реконструировавшего историю русского летописания и русской книжности XI-XIII вв.9 Конечно же, литературно-исторический труд прп. Нестора стал предметом исследования и в известной работе М. Д. Присёлкова, посвятившего летописцу специальную объемную работу [Присёлков, 1923; Присёлков, 1967; Присёлков, 2009]. Этот филологический уклон оказался настолько сильным, что на продолжительное время затмил иные стороны деятельности преподобного летописца. Тем не менее филологический «перекос», возникший в исследованиях, позволил решить одну важную проблему, а именно он позволил восстановить в максимально возможной мере корпус сочинений, которые принадлежат перу прп. Нестора или как минимум связаны с его именем. К таковым сочинениям без сомнения относятся Чтения о Борисе и Глебе, а также Житие прп. Феодосия. Не без полемичной критики к наследию прп. Нестора примыкают избранные записи и главы Повести временных лет, а также пережившие множественные редакции отдельные части и фрагменты Печерского патерика [Шахматов, 2003а; Шахматов, 2003б; Голубинский, 1997, 748–757; Абрамович, 1901, 7; Присёлков, 2009, 143–154].
Впрочем, как уже было отмечено выше, попытка посмотреть на личность и труды прп. Нестора шире была предпринята Е. Е. Голубинским и М. Д. Присёлковым. Многогранность интересов Евгения Евсигнеевича и его внимательность к деталям порой открывали перспективы для дальнейших исследований там, где, казалось бы, все считалось уже давно изученным. И образ прп. Нестора не стал исключением. Голубинский попытался вписать фигуру прп. Нестора и его труды не только в контекст эпохи, но и в галерею портретов и трудов иных книжников его времени: мниха Иакова, Симеона и Поликарпа Киево-Печерских, монаха Ефрема, прп. Кирика Новгородца и ряда иных, в том числе неизвестных, авторов и составителей таких произведений эпохи, как сказание о св. Леонтии Ростовском, житие прп. Евфро-синии Полоцкой, сказание о перенесении мощей свт. Николая Чудотворца и др. [Голубинский, 1997, 742–792]. Более того, церковный историк попытался связать творчество прп. Нестора с этапами его жизненного пути. В итоге, ссылаясь на заключительное послесловие в житии прп. Феодосия Печерского, Е. Е. Голубинский высказался за то, что прп. Нестор вскоре после своего пострижения был рукоположен во «диакона или иеродиакона», в каковом сане и «написал прежде 1091-го г., также как и Иаков, два сказания — одно о тех же Борисе и Глебе и другое — житие преподобного Феодосия Печерского» [Голубинский, 1997, 748].
Аналогично подошел к описанию трудов прп. Нестора и М. Д. Присёлков, рассмотревший труды печерского летописца в контексте истории обители и литературной деятельности монастыря во второй половине XI — начале XII вв. Подобно Е. Е. Голубинскому, он с предельной аккуратностью оценил литературные опыты прп. Нестора в контексте эпохи и жизни Печерского монастыря после-Феодосиевского времени, а именно в годы прпп. Стефана и Никона, чьи труды и заботы на протяжении всех лет их игуменства оставались обусловленными отношениями обители с сидевшими в Киеве князьями [Присёлков, 2009, 67–132].
Все перечисленные исследования легли в основу обширной и глубокой по содержанию статьи о прп. Несторе Ю. А. Артамонова, подвергшего обоснованной критике ряд взглядов своих славных предшественников и подведшего тем самым определенный итог в изучении истории и наследия русского книжника. Однако и в этой замечательной работе не прозвучали вопросы о том, как трудился прп. Нестор. А без ответа на них образ первого русского летописца едва ли можно считать завершенным.
Таким образом, дело реконструкции круга послушаний и обязанностей, какие нес прп. Нестор, как и иные монастырские книжники, при всем немногословии скупых на сообщения источников небезнадежно. И, как это представляется, может быть разрешено при учете ряда обстоятельств, которые связаны с трудом книжника и крайне редко привлекали внимание исследователей.
При определении круга послушаний прп. Нестора в монастыре очевидным представляется то, что подвижник участвовал в создании важнейших текстов своего времени: во-первых, летописания, обладавшего не только важным политическим, но и эсхатологическим значением, и, во-вторых, агиографических текстов, связанных с прославлением Бориса и Глеба, а также Феодосия Печерского. Все эти тексты возникали не как результат частной инициативы, а в качестве своего рода заказа, который мог поступать от великого князя или/и митрополичьей кафедры. Впрочем, житие прп. Феодосия могло возникнуть и по воле игумена с согласия совета геронтов, однако и эта инициатива должна была либо опираться на волю властителей Киева, либо совершаться при покровительстве князя.
Действительно, составление таких сложных произведений, как Повесть временных лет, фрагменты Патерика, Житие прп. Феодосия и других сочинений, предполагало не только наличие благословения со стороны игумена и совета старцев, но и постоянный доступ к значительному пласту книг и документов обители, среди которых, судя по всему, присутствовали документы, которые, по примеру Византии, могли передаваться из княжеского двора, а также различные копии и черновики, связанные с деятельностью митрополии. Необходимо принять во внимание еще одно обстоятельство. Книжник не был способен создать обширный и высокохудожественный корпус произведений без опоры на образцы и без знания всего комплекса документов, привлеченных к работе. Подобный труд не мог быть проделан при опоре на одну лишь монашескую ревность. Помимо перечисленного выше необходимо было обладать опытом создания сложных текстов, иметь представление о целях своего труда. Собственно, и сама кандидатура книжника должна была устраивать заказчика и тех, кому предстояло одобрить представленные тексты. К тому же книжнику надлежало иметь время для такого труда, материалы для письма и, конечно же, соответствующее помещение. Наконец, допущенный к книгам и документам, прп. Нестор должен был обладать огромным доверием со стороны тех, кто допускал его к библиотеке, документам и тайнам княжеской и церковной жизни. В идеале, послушание летописца должно было совпадать с послушаниями, какие мог нести хранитель монастырской библиотеки и монастырского архива. Только знание библиотеки и богатого монастырского архива, вероятно, хранившего в себе записи о монахах, княжеские грамоты, переводы и черновики осуществлявшихся в обители переводов, различных судебных заседаний, уставов писем, могло позволить прп. Нестору, как и иным книжникам-летописцам, создавать столь сложные произведения.
Не вызывает сомнения тот факт, что прп. Нестор входил в число совета старцев обители, следы которого просматриваются в истории прп. Никиты, в последующем епископа Новгорода. И такой высокий статус позволял прп. Нестору после вхождения в число членов совета старцев, органа, существовавшего в обители по образцу подобных советов в монастырях Афона, влиять на жизнь обители. Однако возникает вопрос: что стало основанием для избрания Нестора в число совета старцев?
Наконец, прп. Нестор, если доверять уже приводившимся выше выводам Е. Е. Голубинского, являлся диаконом обители, а значит, имел прямое отношение к организации богослужения. При всем малом чине диакона (иеродиакона) его значение в организации жизни монастырей и храмов трудно переоценить. Однако не вполне ясно, когда началось диаконское служение прп. Нестора. Как справедливо заметил Ю. А. Артамонов, мнение о том, что прп. Нестор был рукоположен во диакона в юности, не имеет оснований.
Что позволило прп. Нестору попасть в круг лиц, осуществлявших управление монастырем? Принимая высокий уровень не обычной грамотности, а именно образованности, который мог поддерживаться только при условии постоянной работы с книгами и документами, можно заключить, что прп. Нестор, скорее всего, являлся хранителем библиотеки и архива монастыря. Студийский устав предполагал наличие подобной должности, что в целом соответствовало практике хранения монастырских архивов в Византии [Студийско-Алексиевский Устав, 2001, 408; Меньшиков, 2005, 38– 48]. Очевидным видится то, что прп. Нестор, как и иные составители и авторы древнейших русских летописей, был не просто грамотным, а в самом широком смысле книжным человеком. Исследователи уже давно обратили внимание на то, что авторы и составители ранних русских летописей оказались знакомы не только с текстами Священного Писания, что, как заметил И. Н. Данилевский, «не было редкостью среди монахов», но и со значительной византийской библиотекой (преимущественно в болгарском переводе) [Данилевскиий, 2019, 143–159]. И труд прп. Нестора в полной мере продемонстрировал эту погруженность летописца в литературу своего времени.
Нельзя исключать и того, что еще одной важной обязанностью прп. Нестора могло было быть ведение монастырских записей, связанных с жизнью насельников обители, своего рода монахологий, объединявших краткие сообщения о приходивших в обитель лицах, иначе говоря — летописи монастыря, подобной записям, какие с аккуратностью ведутся на Афоне. Вероятно, именно эти известия и стали одним из источников русского летописания и Киево-Печерского патерика10. Поэтому сообщения о первых печерских подвижниках, отличающиеся известями в том числе и о происхождении иноков, могли были быть почерпнуты не из устных преданий (или, по меньшей мере, не из них одних), а из недошедших записей о насельниках обители (монахологий). Примечательно, что еще одним автором Повести временных лет значится игумен Сильвестр11, образованность и высокий статус которого, открывавший доступ к документам, также в значительной мере обеспечил ему возможность провести редакцию летописи.
Если уклониться от дискуссии об авторстве Повести временных лет и объеме труда ее составителей12, то можно прийти к некоторым выводам, а главное — к ответу на вопрос о том, каким было послушание прп. Нестора в обители. Все изложенное выше позволяет предположить, что основным послушанием прп. Нестора было служение в архиве и библиотеке Печерского монастыря, располагавшейся, скорее всего, на полатях Успенского собора обители, о которых как о месте хранения иноческих
(после смерти монахов) и монастырских документов упоминает рассказ о приходе иконописцев к игумену Никону13. При всей умозрительности предложенного вывода, аргументация которого в значительной мере опирается на логические конструкции в силу малочисленности источников, приходится признать, что именно эта специфика послушания прп. Нестора в совокупности с его широкой образованностью, истоки которой нуждаются в отдельном осмыслении, и талантом во многом предопределила успех его труда.
Список литературы Несколько штрихов к портрету преподобного Нестора Летописца (ещё раз к вопросу о церковных и монастырских архивах в домонгольской Руси)
- Киево-Печерский патерик (2004) — Киево-Печерский Патерик // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4: XII век / Под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 2004. С. 296-489, 641-667.
- Лаврентьевская летопись (1997) — Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М.: Языки славянской культуры, 1997. VIII, 733 с.
- Студийско-Алексиевский Устав (2001) — Студийско-Алксиевский Устав // Пентковский А. М. Типикон Патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2001. С. 231-420.
- Устав Исторического Общества (1894) — Устав Исторического Общества Нестора летописца при Императорском Университета св. Владимира в г. Киеве: утв. 22 дек. 1893 г. Киев: Тип. Н. Пилющенко и Ко, 1894. 12 с.
- Абрамович (1901) — Абрамович Д. К вопросу об объеме и характере литературной деятельности Нестора Летописца. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1901. 10 с.
- Артамонов, Шевченко (2018) — Артамонов Ю.А., Шевченко Э.В. Нестор (f 1-я четв. XII в. (?), Киево-Печерский мон-рь) // Православная Энциклопедия / Под ред. патр. Моск. и всея Руси Кирилла. М.: ЦНЦ «ПЭ», 2018. C. 77-86.
- Голубинский (1997) — Голубинский Е.Е. История Русской церкви / [Репр. изд.]. М.: Крутицкое Патриаршее подворье: О-во любителей церковной истории, 1997-2002. (Материалы по истории Церкви). Т. 1, [1]: Кн. 16: Период первый, киевский или домонгольский: Первая половина тома. М.: Крутицкое патриаршее подворье: О-во любителей церков. истории, 1997. XXIV, 968 с.
- Данилевский (2019) — Данилевский И.Н Герменевтические основы изучения летописных текстов. Повести временных лет. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2019. 448 с.
- Жих (2019) — ЖихМ. И. Два автора Повести временных лет и проблема объема летописной работы Нестора // Вестник «Альянс-Архео». 2019. Вып. 29. С. 3-60.
- Иртенина (2019) — Иртенина Н. Нестор-летописец. М.: Вече, 2019. 512 с.
- Карпов (2017) — Карпов А.Ю. Русская Церковь X-XIII вв. Биографический словарь. М.: Квадрига, 2017. 472 с.
- Лихачёв (2001) — Лихачёв Д. С., Алексеев А.А., Бобров А.Г. Текстология: На материале рус. лит. X-XVII вв. / Предс. редкол. Б. Н. Флоря; 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: Алтейя, 2001. 758 с.
- 13 «Тогда купно вси черноризци и гр^кы, мастери же и писци, прослави- ша великого Бога, и того пречистыа Матере чюдную икону, и святаа отца Антониа и Феодосиа. И тако обои живот свой скончаша в Печерьскомь монастыре, мастеры же и писци, во мнишескомь житии, и суть положени въ своем притвор^; суть же и нын^ свиты ихъ на полатах и книгы их гр'Ьческыа блюдомы в память чюдеси» [Киево-Печерский патерик, 2004, 310].
- Макарий Булгаков (1995) — Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской церкви. Кн. 2: История Русской церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского м-ря, 1995. 702, [1] с., [16] л. ил.
- Меньшиков (2005) — Меньшиков А. В. Из истории архивов Византийской церкви XXV вв. // Отечественные архивы. 2005. № 4. С. 38-48.
- Мюллер (2005) — Мюллер Р. «Повесть временных лет» или «летопись Нестора» // От Древней Руси к новой России: юбилейный сб., посвященный чл.-кор. РАН Я. Н. Щапову / Ин-т российской истории РАН; редкол.: А. Н. Сахаров (отв. ред.) [и др.]. М.: Паломнический центр Московского Патриархата, 2005. С. 123-127.
- Оспенников (2020) — Оспенников Ю. В., Гайденко П. И. Церковный суд на Руси XI-XIV веков. Исторический и правовой аспекты / СПбДА; Общество изучения церковного права им. Т. В. Барсова («Барсовское общество»). СПб.: Изд-во СПбПДА, 2020. 260 с.
- Присёлков (1923) — Присёлков М..Д. Нестор летописец: опыт историко-литературной характеристики / Предисл. «От редактора»: проф. Ив. Гревс. Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1923. 112, [3] с.
- Присёлков (1967) — Присёлков М.Д. Нестор летописец: опыт ист.-лит. характеристики. [Repr.]. The Hague: Europe printing, 1967. 112, [1] с.
- Присёлков (2009) — Присёлков М.Д. Нестор летописец. СПб.: Русский Миръ, 2009. 153, [2] с.
- Творогов (1987) — Творогов О. В. Нестор (1050-е гг. (?) — нач. XII в.) // Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1987. Вып. 1: XI — первая половина XIV в. С. 274-278.
- Тептюк (2014) — Тептюк Л. Н Основные вехи деятельности исторического общества Нестора-Летописца и участие Владимира Иконникова // Гилея: научный вестник. 2014. №91. С. 47-49.
- Устав Исторического Общества (1894) — Устав Исторического Общества Нестора летописца при Императорском Университета св. Владимира в г. Киеве: утв. 22 дек. 1893 г. Киев: Тип. Н. Пилющенко и Ко, 1894. 12 с.
- Флоринский (1886) — Флоринский Н. И., прот. Преподобный Нестор Летописец и русские летописи. 2-е изд. Киев: тип. Киево-Печерской лавры, 1886. 26 с.
- Чечулин (1911) — Чечулин Н.Д. Гравированные портреты Нестора летописца. [СПб.]: Тип. Гл. упр. уделов, 1911. 6 с., 2 л.
- Шахматов (2003а) — Шахматов А.А. Нестор летописец // Шахматов A.A. история русского летописания. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание XI-XII вв. / Отв. ред. В. К. Зиборов и В. В. Яковлев. СПб.: Наука, 2003. С. 413-427.
- Шахматов (2003б) — Шахматов A.A. О сочинениях преподобного Нестора (Первая пробная лекция на заседании историко-филологического факультета Московского университета 1 марта 1890 г.) // Шахматов A.A. история русского летописания. Т. 1: Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2: Раннее русское летописание XI-XII вв. / Отв. ред. В. К. Зиборов и В. В. Яковлев. СПб.: Наука, 2003. С. 465-475.
- Щапов (2005) — Щапов Я.Н Монашество на Руси в XI-XIII веках // Монашество и монастыри в России. XI-XX века: Исторические очерки / Отв. ред. Н. В. Синицына; Ин-т российской истории. М.: Наука, 2005. C. 13-24.