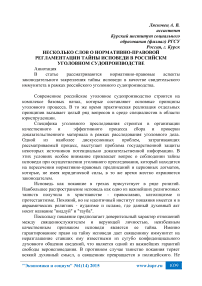Несколько слов о нормативно-правовой регламентации тайны исповеди в российском уголовном судопроизводстве
Автор: Лясковец А.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 1-3 (14), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются нормативно-правовые аспекты законодательного закрепления тайны исповеди в качестве свидетельского иммунитета в рамках российского уголовного судопроизводства.
Короткий адрес: https://sciup.org/140111018
IDR: 140111018
Текст научной статьи Несколько слов о нормативно-правовой регламентации тайны исповеди в российском уголовном судопроизводстве
В статье рассматриваются нормативно-правовые аспекты законодательного закрепления тайны исповеди в качестве свидетельского иммунитета в рамках российского уголовного судопроизводства.
Современное российское уголовное судопроизводство строится на комплексе базовых начал, которые составляют основные принципы уголовного процесса. В то же время практическая реализация отдельных принципов вызывает целый ряд вопросов в среде специалистов в области юриспруденции.
Специфика уголовного преследования строится в организации качественного и эффективного процесса сбора и проверки доказательственного материала в рамках расследования уголовного дела. Одной из наиболее дискуссионных проблем, затрагивающих рассматриваемый процесс, выступает проблема государственной защиты некоторых источников потенциально доказательственной информации. В этих условиях особое внимание привлекает вопрос о соблюдении тайны исповеди при осуществлении уголовного преследования, который находится на пересечении нормативно-правовых предписаний и церковных догматов, которые, не имея юридической силы, в то же время жестко охраняются законодателем.
Исповедь как покаяние в грехах присутствует в ряде религий. Наибольшее распространение исповедь как одно из важнейших религиозных таинств получила в христианстве - православии, католицизме и протестантизме. Похожий, но не идентичный институт покаяния имеется и в авраамических религиях - иудаизме и исламе, где данный духовный акт носит название "виддуй" и "тауба".
Поскольку покаяние предполагает доверительный характер отношений между священнослужителем и верующей личностью, неизбежным качественным признаком исповеди является ее тайна. Именно гарантированное право на тайну исповеди дает священнику иммунитет на неразглашение ставших ему известными из сугубо конфиденциального духовного общения сведений, что является одной из важнейших гарантий свободы вероисповедания. В противном случае таинство покаяния теряет всякий духовный смысл, а священник превращается в полицейского. Не случайно в соответствии с пунктом 7 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" тайна исповеди охраняется законом, а священнослужитель не может быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди <1>. Это требование конкретизировано в уголовном и гражданском процессуальном законодательстве. Так, согласно пункту 4 ч. 3 ст. 56 Уголовнопроцессуального кодекса РФ священнослужитель не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. Похожая норма содержится и в пункте 3 ч. 3 ст. 69 Гражданского процессуального кодекса РФ.
В то же время любое нормативно-правовое предписание представляется не более чем декларативным заявлением без его должного практического подкрепления. А следовательно лишь качественное исполнение закона позволяет судить об эффективности его юридической значимости.
Дополнительные гарантии тайны исповеди имеются также во внутренних установлениях самих религиозных объединений и канонических нормах права, которые обязывают священнослужителей избегать действий, злоупотребляющих доверием, поскольку это несовместимо с их духовным статусом. Например, согласно Правилу 120 Номоканона при Требнике 1662 г. православный священник не может нарушить тайну исповеди ни при каких обстоятельствах. За открытие греха исповедующегося духовного отца отстраняют на три года от служения, и каждый день он должен класть сто поклонов [1].
Закономерен вопрос: обязан ли в современных условиях священнослужитель вопреки воле доверителя использовать полученные сведения для предотвращения преступления, или он в любом случае должен сохранять их в тайне? Если не обязан, не противоречит ли право на тайну исповеди священнослужителя его гражданскому долгу служения земному отечеству? Какой нравственный выбор должен сделать священнослужитель в сложившейся непростой жизненной ситуации, когда возникает конфликт интересов между его духовным (профессиональным) и гражданским долгом?
Данная проблема особенно актуальна в нынешних условиях, когда, к сожалению, уровень тяжких и особо тяжких преступлений против личности и общественной безопасности остается на стабильно высоком уровне. В самом деле, если бы священнослужитель имел возможность предотвратить тяжкое преступление, влекущее гибель людей, но не сделал этого, ссылаясь на тайну исповеди, наверное, гражданская совесть верующих граждан взывала бы против абсолютизации такой тайны. Видимо, не случайно в современных социальных учениях и позициях крупнейших российских конфессий содержится призыв о необходимости быть законопослушными гражданами земного отечества, следовать государственным законам, а право на жизнь рассматривается как священный дар.
Исходя из всего вышеобозначенного, автор предполагает, что вполне закономерной является точка зрения, согласно которой отказ священнослужителя от обязанности сохранения профессиональной тайны в современных условиях допустим и оправдан. Такие случаи являются исключительными: когда священнослужитель узнает о готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении против личности либо общественной безопасности. При этом вопрос о том, следует ли священнослужителю в этой ситуации доносить на покаявшегося человека и связанных с ним лиц, может решаться только в плоскости признания за ним его права на разглашение тайны. Моральный долг священнослужителя по предотвращению готовящегося преступления ни в коем случае не может быть превращен в его юридическую обязанность. Следовательно, данное требование должно быть зафиксировано не в нормах светского права, а во внутренних (канонических) установлениях и нормах этики самих религиозных организаций.
Однако не все так однозначно, как могло бы показаться, исходя из положения п. 4 ч. 3 ст.56 УПК РФ. Часть 2 ст. 11 УПК РФ предусматривает: «в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания - дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу». Для священнослужителей в данной части исключений не предусмотрено. То есть фактически законодатель предусмотрел возможность допроса лица, обладающего свидетельским иммунитетом.
В данном контексте представляет интерес мнение Ю.К. Орлова: «Тайна исповеди установлена религиозными канонами, а не государственными нормативными актами. Государство никакой ответственности за нарушение тайны исповеди кем бы то ни было не несет и никаких санкций к виновным не применяет. Государство обязано лишь обеспечить возможность представителям религии выполнять свои обряды, в том числе и соблюдение тайны исповеди, однако не вправе что-то предписывать и запрещать. Поэтому категорический запрет священнослужителям давать показания по данному вопросу может быть расценен как вмешательство государства в дела церкви» [2].
Сам священнослужитель, которому становится на исповеди известно о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, оказывается в двояком положении. С одной стороны, перед людьми и обществом как гражданин он должен предпринять меры для помощи в раскрытии преступления. С другой стороны, нарушение тайны исповеди делает его самого лицом, совершившим церковное преступление.
Однако каким образом священнослужитель сможет определить тяжесть замышляемого преступления, если он не юрист? Ответ очевиден.
Современный уровень образования и подготовленности священнослужителей позволяет им неплохо ориентироваться в действующем законодательстве. Основы права сегодня преподаются в большинстве духовных образовательных учебных заведений, а в некоторых из них даже созданы кафедры права и церковно-государственных отношений. Кстати, в последние годы похожие предложения со стороны ученых выдвигаются и по отношению к типологически сходной по режиму сохранения адвокатской тайне. Авторитетные исследователи также предлагают не включать в предмет профессиональной тайны адвоката сведения о готовящемся тяжком и особо тяжком преступлении [3].
Сказанное ставит на повестку также ряд смежных вопросов, которые нуждаются в правовом разрешении. Во-первых, как мы видим, в законодательстве в контексте тайны исповеди говорится о священнослужителях. Однако ни Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", ни иные законодательные акты не раскрывают это понятие. В разных конфессиях существует множество духовных званий и должностей служителей культа, которые не всегда могут претендовать на статус священнослужителя, следовательно, не все они могут являться носителями тайны исповеди. Во-вторых, нуждается в юридических уточнениях и само понятие "исповедь". Не всякая доверенная тайна подпадает под это понятие. Необходимо учитывать ряд формальных признаков - статус доверителя тайны и доверенного лица, место, время, цель и иные обстоятельства, которые характеризуют данный акт именно как исповедь. На наш взгляд, эти вопросы должны найти отражение в действующем законодательстве о свободе совести и о религиозных объединениях.
Итак, канонические предписания крупнейшей российской конфессии -Русской Православной Церкви с известной долей осторожности и в порядке исключения допускают возможность раскрытия тайны исповеди в строго определенных случаях. Авторитетные богословы других конфессий также допускают такую возможность. Почему же светский законодатель должен ограничивать волю священнослужителя, если он стремится выполнить свой гражданский долг? Согласно требованиям пункта 2 ст. 4 и статьи 15 Закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" государство уважает внутренние установления религиозных объединений, не вмешивается в их деятельность, если она не противоречит закону. Сказанное логически подводит нас к выводу: законодательство не должно быть столь категоричным по отношению к тайне исповеди. Именно за священнослужителем остается право принять предписанные внутренними установлениями меры для предотвращения тяжкого или особо тяжкого преступления, о которых ему стало известно из исповеди. Государство не должно себя ограничивать в вопросе о возможности допроса священнослужителя в качестве свидетеля, если в особых случаях, не нарушая канонических предписаний, он готов это сделать добровольно. Таким образом, не абсолютный, а относительно абсолютный характер тайны исповеди будет наиболее полно соответствовать принципу социальной ответственности, когда речь идет о таких фундаментальных ценностях, как жизнь человека и безопасность общества.
Список литературы Несколько слов о нормативно-правовой регламентации тайны исповеди в российском уголовном судопроизводстве
- Татьянин Д.В. Некоторые вопросы, возникающие в связи с невозможностью допроса священнослужителя в качестве свидетеля//Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ». Челябинск, 2009. C. 117
- Уголовно-процессуальное право Российской Федерации/под общ. ред. П.А. Лупинской. Учебник. 2-е издание. -М., 2009. -C. 264
- Татьянин Д., Закирова Л. Проблемы тайны исповеди в уголовном процессе России//Вестник ОГУ. -2011. -№ 3. -С. 140 -142