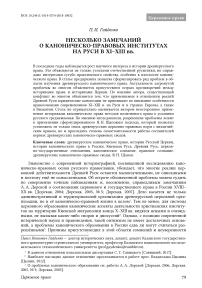Несколько замечаний о каноническо-правовых институтах на Руси в XI–XIII вв.
Автор: П. И. Гайденко
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
В последние годы наблюдается рост научного интереса к истории древнерусского права. Это объясняется не только успехами отечественной русистики, но оправдано интересами сугубо практического свойства, особенно в плоскости канонического права. В статье предпринята попытка сформулировать ряд проблем в области изучения древнерусского канонического права. Актуальность затронутой проблемы во многом объясняется присутствием острых противоречий между историками права и историками Церкви. По мнению автора, существующий конфликт во многом объясняется тем, что применяемые в отношении реалий Древней Руси юридические концепции не принимают во внимание особенности правосознания современников XI–XIII в. на Руси и в странах Европы, а также в Византии. Столь же отрицательно оценивается автором неосторожное применение историками канонического права методов позитивного права к условиям русского средневековья. По мнению исследователя, разрешение проблемы лежит в применении сформулированного Я. Н. Щаповым подхода, который позволил установить не только связь древнерусских церковно-правовых норм с византийским правом, но и проследить степень самостоятельности работы составителей первых древнерусских каноническо-правовых сводов.
Древнерусское каноническое право, история Русской Церкви, история канонического права в России, Киевская Русь, Древняя Русь, церковно-государственные отношения, каноническое сознание, правовое сознание, древнерусские каноническо-правовые своды, Я. Н. Щапов.
Короткий адрес: https://sciup.org/140223385
IDR: 140223385 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10032
Текст научной статьи Несколько замечаний о каноническо-правовых институтах на Руси в XI–XIII вв.
Знакомство с современной историографией, посвященной исследованию каноническо-правовых основ русского православия, убеждает, что многие реалии церковной действительности Древней Руси остаются малоизученными, не описанными и поэтому ещё не осмысленными. Об остроте обозначенной проблемы можно судить по совершенно точным наблюдениям и, несомненно, справедливым замечаниям А. А. Дорской о соотношении церковного и государственного права в России XVIII– XX вв. [Дорская, 2004; Дорская, 2005, № 5; Дорская, 2007]. Дело касается не только административной и территориальной организации древнерусской церковной организации, но и её каноническо-правовой жизни в целом1. Тем не менее, для системы церковного образования канонические аспекты деятельности христианских институтов на территории Киевской митрополии конца X–XIII вв. видятся ясными и очевидными, не вызывая каких-либо споров и дискуссий2. Однако, с позиции современной исторической науки и правоведения, такой оптимизм не имеет достаточных оснований, а проблемы канонического образования в России едва ли могут считаться раз-решёнными3. Причины присутствующих в этой области сомнений и неуверенности
объясняются целым рядом неразрешенных проблем, касающихся деятельности институтов церковного управления, функционирования церковного суда, а также особенностей проявления социального и правового сознания представителей клира. Столь же иллюзорны представления о комплексе и об иерархичности присутствовавших на Руси канонических норм и форм каноническо-правового регулирования. Так, например, исследования последних десятилетий показали, что канонические правила и традиции в домонгольской Руси отличались широкими заимствованиями не только из культурных и правовых норм византийского мира [Щапов, 2011; Щапов, 1978; Щапов, 1998; Морозов, 2006], но и из латинской церковной традиции [Мурьянов, 2007; Максимович, 2008; Мильков, Симонов, 2011; Костромин, 2011; Костромин, 2014, № 1; Костромин, 2016], обладая чертами избирательности. Более того, во многом следуя тем же тенденциям, какие протекали в области развития княжеского и городского права [Источники, 2016, 9–112; Оспенников, 2017], практика правоприменения церковных норм на Руси обладала выборочностью, волюнтаризмом, и во многом развивалась в рамках права отдельных городов и земель [Сутягина, 2015, № 2; Сутягина, 2015, № 9]. Достаточно заметить, что местные церковные суды, использовавшиеся княжеской и епископской властями для обеспечения внутрицерковного единства среди древнерусского духовенства, были существенно ограничены в отношении представителей Византии [Гайденко, Филиппов, 2012, 57–58].
При обращении к каноническому наследию Древней Руси остаётся не вполне понятно, почему, являясь частью византийского церковного мира и возглавляемая греческими иерархами, русская иерархия не восприняла от Константинополя такой же развитой письменной правовой культуры. Церковные уставы Владимира и Ярослава, отчасти регулировавшие некоторые вопросы церковной юрисдикции, даже в самых расширенных версиях не были способны ответить на обилие вызовов, с которыми сталкивалась Церковь ежечасно в области экономической жизни, процессуальных действий, социальных противоречий и т. п. К тому же церковный суд на Руси развивался не в соответствии с нормами и принципами римского (византийского) права — например, письменной фиксации обстоятельств дела, — а при опоре на местные традиции, не обременявшие судопроизводство подобным грузом, и ограничивался вынесением устных определений. Как уже отмечалось выше, неизвестен и корпус канонических норм, к каким прибегала Церковь в своем внутреннем самоуправлении и хозяйственной деятельности. Достаточно заметить, что Вопрошание Кирика или канонические ответы митрополитов Георгия и Иоанна имели ограниченное использование в границах новгородской и киевской епископий.
Столь же непроста ситуация и вокруг заложившей основу русского канонического права сербской Кормчей. Она представляла собой лишь сравнительно небольшую «выжимку» правил из того обилия канонических норм, какие находились в распоряжении византийского духовенства. Примечательно, что круг таких норм, с которыми было знакомо русское духовенство, был шире. Запись об учреждении Печерского монастыря позволяет заключить, что её автор имел представление о сложной организации ктиторских монастырей Византии и применял эти знания к русским реалиям4. Однако не только первые церковные сборники правил, но даже первые редакции русского Номоканона никак не регламентировали подобные отношения и ограничивались, главным образом, вопросами канонической дисциплины, норм христианской морали и лишь некоторых преступлений против Церкви.
Исследования в области истории канонического права Западной Европы показали, что в описываемый период в Европе происходило формирование корпуса церковно-правовых норм, унификация пенитенциарных практик и складывание соответствующих каноническо-правовых институтов. Отмеченное можно рассматривать в качестве закладки своего рода фундамента того, что сегодня называется «западноевропейским каноническим правом» [Митрофанов, 2010, 264–319; Берман, 1998, 93–164; Проди, 2017, 66–72]. Аналогичная ситуация присутствовала и в Византии, правовая культура которой — по крайней мере до начала XIII столетия — находилась на существенно более высоком уровне, чем в государствах Западной и Восточной Европы. Однако и здесь, в империи ромеев, законы, регламентировавшие жизнь и деятельность церковных институтов, являлись составной частью общегосударственных сводов. Их выделение в отдельный и в какой-то мере автономный корпус законов также началось с XII в. Присутствовавшее противоречие, выражавшееся в смешении канонических норм с государственными законами и богословием, хорошо осознавалось современниками как в Византии, так и в Италии, Германии, Франции. Такое положение дел порождало интеллектуальные поиски и заочные теоретические диспуты [Гаген, 2012, 126–146]. Правда, если стараниями византийских интеллектуалов дело в большинстве случаев сводилось к толкованиям, к примирению накопивших предписаний и к формированию сборников, призванных регламентировать главным образом дисциплинарные стороны христианской жизни [Берман, 1998, 171–179; Проди, 2017, 72–110], то в университетах Европы ситуация развивалась иначе. В условиях раннего средневековья здесь удалось провести большую работу по кодификации церковных норм. В результате, уже в XI–XIII вв. стараниями европейских канонистов церковное право довольно интенсивно и динамично складывалось в сложную систему, призванную и, что особенно важно, способную регламентировать деятельность как церковных институтов, так и приватные стороны жизни христиан, и уже с XIII столетия отличающую каноническое право от светских норм и теологии [Проди, 2017, 66–71, 144–154]. При этом каноническое право в Риме и Константинополе отражало не только специфические стороны церковной жизни, исторические и богословские процессы, но и особенности иерархической организации клира. Как известно, в Западной Европе каноническое право формировалось по тем же принципам, по каким строилась система римского права [Цыпин, 2012, 77–87].
При обращении к опыту Древней Руси ситуация видится существенно иной. Формировавшиеся здесь канонические нормы, а, точнее, адаптировавшиеся к местным реалиям нормы византийского и латинского церковных миров, носили не только лапидарный характер, но и, будучи подчинёнными интересам княжеской власти, внутрицерковным задачам епархиального управления или же целям воспитательного свойства, не имели ясного юридического звучания [Мильков, Симонов, 2011, 171–300; Костромин, 2014, № 3, 87–97; Гайденко, 2016, 353–361]. К тому же, привязанные к нормам княжеского права, эти установления нередко не обладали автономией. Собственно, уже Устав Владимира и поздняя вставка в Устав Ярослава о недопустимости вмешательства князей и их представителей в церковные суды вполне убедительно демонстрируют доминирование княжеского влияния в области, которую условно можно было бы назвать «церковным правом» [Устав князя Владимира, 1976, 16–19; Устав князя Ярослава, 1976, 85–91].
Не менее примечательно ещё одно обстоятельство. Если в Византии все же произошло соединение теологии и церковно-правовых норм, и вопросы христианской морали и веры приобрели каноническо-правовое звучание — в некоторых случаях и фактически юридический смысл, возводивший грех из области внутренней жизни в ранг преступления, — то ситуация на Руси XI–XIII вв. была иной. Здесь пенитенциарные нормы Вопрошания Кирика или канонических ответов Митрополитов Георгия и Иоанна Продрома не обладали общеобязательным юридическим статусом, не имели правовых последствий и, судя по всему, служили лишь рекомендациями, авторитет которых — по крайней мере, до создания первой общерусской Кормчей
(конец XIII в.)5 — имел лишь локальное, региональное звучание, о чем уже было сказано ранее.
Более того, рассматривая вопросы функционирования каноническо-правовых институтов Древней Руси, невозможно обойти стороной ряд сопутствующих проблем. Первая из них — степень зрелости, устойчивости и институционального единства древнерусской церковной организации. Об остроте этой проблемы можно судить по работам А. В. Назаренко, Т. Ю. Фоминой и К. А. Костромина [Назаренко, 2009, 172– 268; Фомина, 2014, 68–110; Костромин, 2015, 48–75]. Принято считать, что позитивное право может существовать и функционировать только при наличии сформированных и развитых институтов власти («светской» и «духовной», насколько верно употребление данных терминов в отношении описываемого времени, учитывая, что власть и служение князей и императоров обладали сакральными чертами). В противном случае приходится иметь дело с иными формами регламентации жизни общества. К тому же, природа христианской организации в условиях поздней античности и средневековья была тесно связана с идеей государства. Она черпала свои силы не только в Божественной благодати, но и в ресурсах, находившихся в руках правящих элит, через их посредство и арбитраж в форме императорской власти или власти местных правителей. Именно так церковная иерархия сохраняла внутреннюю целостность и обеспечивала относительное внутреннее единомыслие в области догматики, литургики, морали, дисциплины и способов саморегулирования.
Второй, не менее сложной, задачей видится рассмотрение разнообразных аспектов, позволяющих заключить о состоянии церковного сознания — насколько оно было готово мириться жить в условиях жестких прописанных норм, и было ли оно способно употреблять эти нормы. Все же, при всей развитости церковных аспектов византийского права, реалии и действительность жизни в Византии и на Руси не совпадали. На Руси приходящие в церковь лица воспитывались в системе ценностей абсолютно иной, чем та, в которой формировались мировоззрение и система ценностей византийцев. К тому же, имеющиеся в большинстве исследований представления о древнерусском праве, включая каноническое «право», выстраиваются на основании концепций и взглядов позитивного права. Например, такой подход ясно прослеживается в замечательных работах выдающегося русского канониста Н. Заозерского и небесспорном труде историка церковного права Т. В. Барсова [Заозерский, 1894, 142–177; 254–413; Бердников, 1903, 178–238; Барсов, 1878, 367–567; Ермилов, 2016, 245– 265]. Во всяком случае, значительная часть русских канонистов XIX — начала XX вв. практически никак не принимали во внимание ни довольно поздний характер списков Уставов Владимира и Ярослава, ни ту пропасть, какая разделяла представления о праве в древнерусском обществе и в обществе синодального времени. Фактически никак не анализировались различия между правовым сознанием Руси и современной ей Византии. Совершенно не принималось во внимание, что даже для древнерусского книжника право выражалось не в следовании закону, а в стремлении к справедливо-сти6 или милости к преступившему закон7.
Между тем, мы исходим из того, что сама деятельность суда на Руси существенно отличалась от тех основ и принципов судопроизводства, которые сформировались в Новое и Новейшее времена. Уставы Владимира и Ярослава существенно отличались от византийских образцов правовых актов, и по своему содержанию и структуре были более близки к нормам Правд. Данное обстоятельство было отмечено ещё Я. Н. Щаповым [Щапов, 1972, 279–306]. Если же принять во внимание то, что большинство списков этих памятников церковного права относится к концу XIV–XV вв. — что говорит о сохранении актуальности заключенных в них положений, — можно признать, что столь архаическая форма регламентации внутрицерковных отношений не утратила своей актуальности и по прошествии нескольких столетий. Поэтому возникает, как видится, весьма резонный вопрос: можно ли считать древнерусские каноническо-правовые нормы полноценным корпусом канонического права?
Вопросы об уровне культурных ценностей и того сознания, которое можно было бы назвать «правовым», неоднозначны и трудно разрешимы. Во-первых, весьма проблематичны интерпретации круга источников и сюжетов, позволяющих обнаружить следы этого правового сознания. Действительно, корпус таких текстов немногочислен, а их содержание, обусловленное специфическими целями создания, нуждается в особом отношении. Во-вторых, не менее затруднительно определить, что понимал житель Киевской Руси под тем, что именуется в современной литературе «правом»? Более того, какими были критерии такого «права»? Эти крайне непростые вопросы, к сожалению, оказались мало затронутыми не только в научной, но и в современной церковной литературе. Во всяком случае, даже тогда, когда подобные усилия предпринимаются, результаты работы едва ли могут рассматриваться в качестве достаточных для подведения уверенных итогов. Примером могла бы служить монография Т. И. Демченко [Демченко, 2013]. Её труд посвящён особенностям древнерусского правового самосознания. Однако приходится с сожалением констатировать, что усилия исследовательницы не могут быть признаны успешными. Предложенный ею взгляд основан, главным образом, не на источниках, о критике которых в тексте её монографии ничего не сказано, а на личных религиозно-философских убеждениях автора8. Наконец, не вполне ясна иерархия и авторитетность текстов, а также механизм включения христианских норм византийского права в каноническо-правовые реалии Древней Руси.
При характеристике источников, позволяющих оценить правосознание жителя Древней Руси, приходится принимать во внимание ряд обстоятельств. Важнейшее из них заключается в том, что все имеющиеся памятники в большей мере отражали правосознание не столько населения, сколько древнерусского книжника, либо социальных и политических элит9. Именно их усилиями и в их интересах создавались интересующие исследователей тексты. Достаточно заметить, что даже Кормчие, рассматривающиеся в качестве первых общерусских канонических сводов, по мнению учёных, продолжительный период создавались в единичных экземплярах и оставались книгами, предназначавшимися исключительно для нужд кафедр [Корогодина, 2015, 8; Белякова, 2016, 90], а не широкого круга духовенства и мирян. Более того, остается открытым вопрос о действительном объеме каноническо-правовых памятников, их иерархии и практической значимости [Данилевский, 1998, 236–250]. Также, принимая во внимание поздний характер значительной части каноническо-правовых источников, отражающих реалии X-XIII столетий [Памятники, 2014, 365–410], следует отметить неразрешенность вопроса о соотношении отраженных в этих памятниках норм с действительностью исследуемого времени.
Всё высказанное призвано обратить внимание исследователей на необходимость пересмотра оценок и взглядов на каноническую ситуацию в русской церковной организации XI–XIII вв. Представляется, что наиболее верным подходом стало бы более внимательное соотнесение местных канонических норм не только с византийским и западноевропейским влиянием, но и с правовыми представлениями современников. Последнее определяло выбор той или иной нормы, насаждавшейся в церковном сообществе Руси.
Однако это вовсе не означало, что идеалы о Праве у византийцев и у элит Древней Руси совпадали. Напротив, они принципиально расходились, а осуществлявшиеся заимствования не могут служить безусловным доказательством «подтягивания» древнерусских канонических и правовых представлений до уровня правового сознания европейцев и ромеев. Господствовавшие на Руси культурные стереотипы и представления при всём старании княжеской власти и церковной иерархии были крайне далеки от культурных вершин византийского общества. Поэтому на Руси не могло быть автоматического копирования норм и практик, присутствовавших в империи. Наиболее последовательно и обоснованно эта точка зрения представлена в работах Я. Н. Щапова, сумевшего в своих исследованиях охватить самый широкий пласт древнерусских каноническо-правовых памятников, и сопоставить их с каноническими и правовыми памятниками Византии [Щапов, 2011; Щапов, 1978; Щапов, 1972].
В своих работах, посвященных истории древнерусского права, выдающийся советский и российский историк установил прямую зависимость влияния византийских и южнославянских каноническо-правовых норм на формирование древнерусского княжеского, городского и церковного права. Правда, при этом он проследил и то, как привносившиеся на русскую почву правила видоизменялись с учетом местных реалий. Значительно ранее подобную работу осуществил М. Н. Тихомиров в отношении «Закона судного людем» [Закон судный, 1961]. Такой подход позволяет установить не только соответствие древнерусских правил правовым нормам Византии, но и проследить закономерности в работе составителей первых каноническо-правовых сводов на Руси. Поэтому движение в направлении, указанном Я. Н. Щаповым, видится наиболее оправданным. Только при таком подходе удастся примирить существующие между юристами и историками противоречия по вопросам древнерусского права, только в этом случае исследования в данной области смогут быть выведены на новый методологический уровень.