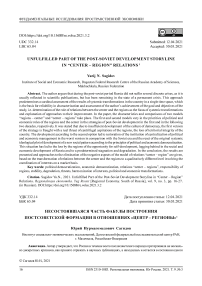Несостоявшаяся часть фабулы построения постсоветской формации в отношениях "центр - регионы"
Автор: Сагидов Юрий Нурмагомедович
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики
Статья в выпуске: 3 т.9, 2021 года.
Бесплатный доступ
Автор утверждает, что Россия в течение всего послесоветского периода претерпевала не несколько дискретных кризисов, как принято отражать в научных публикациях, а находилась и остается в состоянии одного перманентно протекающего кризиса. Такой подход предопределяет кардинальную оценку результатов системных преобразований в стране в едином временном пространстве, что является основой достоверности в характеристике и оценке выполнения автором цели и задач исследования - определения роли отношений между центром и регионами как средоточия системных преобразований и обоснования подходов к их совершенствованию. В работе выполнены характеристика и сравнение двух моделей - «регионы - центр» и «центр - регионы». Первая и вторая модели различались по приоритетам политического и экономического статусов регионов и центра в стратегиях послесоветского развития соответственно в первом и в двух последующих десятилетиях. Выявлено, что из-за недостаточной развитости культуры демократии первый вариант стратегии чреват реальной угрозой центробежных устремлений регионов, потерей территориальной целостности страны. Развитие по второму варианту обусловило реставрацию института централизации политического и экономического управления в худшем варианте исполнения по сравнению с советским и сброс изначальной системной идеологической фабулы построения новой общественной формации на принципах политической и экономической демократизации. Это привело к отрешению регионов от инициативы саморазвития, к отставанию в социально-экономическом развитии России и к детерминированной обусловленности стагнации и деградации. В заключении даны выводы и обоснованы подходы к погашению негативных сторон модели отношений «центр - регион» с трансформацией отношений между центром и регионами на качественно иной уровень, предполагающий согласование интересов на рыночных основах.
Политическая демократизация, экономическая демократизация, отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/149139579
IDR: 149139579 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.3.2
Текст научной статьи Несостоявшаяся часть фабулы построения постсоветской формации в отношениях "центр - регионы"
DOI:
Известные ученые Д. Асемоглу и Дж. Робинсон опубликовали книгу [Asemoglu, Robinson, 2012: 7–12], содержание которой по своей сути сводилось к доказательству того, что страны с авторитарным и тоталитарным режимами правления могут посредством концентрации ресурсов в производстве приблизиться по уровню развития к экономически авангардным странам мира. Но при этом утверждается, что первые никогда не смогут обогнать в развитии вторых и окажутся со временем на пути неизбежной деградации. Характерным подтверждением этого тезиса является экономическая история Советского Союза. Страна, концентрируя ресурсы развития и используя мировой технологический опыт, за время своего существования (1917–1990 гг.) достигла высоких экономических результатов. Но выдвинутый лозунг «Догоним и перегоним США» не был реализован. Более того, с начала 60-х гг. прошлого века появилось и нарастало понимание, что централизованная система управления экономикой, в которой региональные органы управления ограничивались в проявлении суверенной инициативы развития, а частная предпринимательская инициатива практически полностью отвергалась, исчерпала себя и страна находилась в состоянии стагнации с признаками начавшейся экономической и политической деградации. Все это нашло отражение в общественном мышлении и понимании необходимости системных преобразова- ний на основе фабулы политической и экономической демократизации всего социума.
Эта фабула актуализировала проблему предоставления регионам самостоятельности и ответственности в социально-экономическом развитии. Особый всплеск внимания к проблеме был катализирован парадами суверенитетов субъектов Российской Федерации, а также известной фразой руководителя страны (Б.Н. Ельцина) о том, что регионы могут брать свободы столько, сколько захотят. Началась дискуссия по обоснованию выбора одной из двух альтернатив: «сильный центр и слабые регионы» и «сильные регионы и слабый центр».
Судя по публикациям в центральной периодической и книжной печати, внимание ученых и специалистов к проблеме саморазвития регионов возрастало в первом десятилетии послесоветс-кого периода и сохранялось во втором. В ряде научно-исследовательских институтов и вузов страны сформировались научные школы по исследуемой проблеме. Наиболее заметные результаты исследований публиковали члены сообщества научной школы академика А. Татаркина, сформировавшегося в Институте экономики УрО РАН. Немаловажный вклад внесли также ученые научных школ Института экономики РАН, Волгоградского, Саратовского и других государственных университетов, а также отдельные исследователи.
Однако во втором послесоветском десятилетии интенсивность отражения результатов исследований по проблеме стала заметно снижаться и к концу третьего, то есть к настоящему времени, публикаций по соответствующей тематике в центральных издательствах нет. В то же время в практической экономической действительности наблюдался параллель процесса, противоположного научным обоснованиям значимости суверенной инициативности в деятельности регионов, – значительного сокращения во времени числа хозяйственно самодостаточных регионов России. Так, если в 1991 г., по данным Росстата, было 67 регионов страны, не нуждавшихся в дотационных вспомоществованиях, и 18 нуждавшихся, то в настоящее время из общего числа 85 регионов 72 нуждаются и только 13 не нуждаются в дотациях. То есть протекавший процесс сокращения числа успешных регионов в аспекте возможного их саморазвития отражал явно выраженный отрицательный вектор в реализации фабулы.
Поэтому представляется необходимым выполнить критический анализ и дать оценку результатам тридцатилетних преобразований в стране с целью обоснования ответов на вопросы: остается ли необходимость суверенизации хозяйственной инициативы регионов; при каком типе и характере отношений между центром и регионами возможен выход России на стратегию опережающего развития, при которой окажется реальной перспектива преодоления барьера ее перехода из числа развивающихся стран в число развитых?
Реалии состояния отношений «центр – регионы»
Дрейф в сторону экстрактивной институционализации
Можно считать, что в начале послесоветс-кого периода политические и экономические устремления имели направленность на повышение приоритетной роли регионов, наделение их властными полномочиями и функциями суверенного управления экономическим развитием. Демонтаж советской централизованной системы рассматривался как условие повышения политического и экономического статусов регионов. Так, часть сохранившихся финансовых накоплений, предназначенных для инвестиционных целей, а также заимствованные зарубежные средства центром были перечислены регионам. Многие регионы стали разрабатывать свои конституции с декла- рированием суверенитета. Взаимодействие центра Федерации с регионами предусматривалось на основе договорных отношений и до 1993 г. часть регионов успели заключить такие договора. Широкое распространение получила система выборов. Всенародно избирались советы сельских и городских поселений, руководители предприятий, главы регионов, депутаты Государственной думы и даже Совета Федерации. Избранные главы регионов утверждались Президентом РФ. Не возбранялись демократические свободы: допустимость оппозиций, демонстраций, собраний, свободы печати и пр.
Все описанные преобразования соответствовали модели «сильные регионы и слабый центр». Однако российский социум, пребывавший веками в состоянии патерналистского патронажа и привыкший к нему, оказался недостаточно готовым к полному восприятию культуры демократии. Ослабление центра привело к экономическому коллапсу. В первые пять лет нового периода страны оказались достаточными для колоссальных потерь в промышленности страны. Особенно ощутимые потери понесли южные приграничные регионы. Географическая удаленность их предприятий, находившихся в организационных связях с головными предприятиями центральных регионов, оказалась фактором нерентабельности связей, последовавших банкротств и губительного сокращения производств. Только в регионе, в котором проживает автор, – Республике Дагестан из 32 крупных предприятий промышленности обанкротились 18. Остальные предприятия снизили объемы производства в 6–10 раз. Кризис в промышленности страны обусловил цепную реакцию в других отраслях хозяйства страны. Это привело к ряду негативов: к возросшей дифференциации регионов по уровню развития, безработице, галопирующей инфляции, снижению уровня жизни населения, расстройству межрегиональных связей и появлению местнических кордонов продвижения товаров. Все это было результатом потери управляемости политической и экономической жизни в стране, приведшей к угасанию угара эйфории разрушений. Апофеозом стало появление в некоторых регионах признаков центробежных намерений. Одновременно у многих людей, уставших от невзгод, возрождался ностальгический спрос на «сильную руку».
Таким образом, попытка преобразований по модели «сильные регионы и слабый центр» привела как к ослаблению центра, так и к ослаблению регионов, а также к потере экономической мощи страны. Можно согласиться с A. George, J. Robert [George, Robert, 2012: 3], а также с Н. Лапиной [Лапина, 2016] в том, что разрушительные результаты первых лет системных преобразований в России были обусловлены отсутствием в обществе опыта и культуры политической и экономической демократии.
Центральные органы власти пересмотрели свою позицию первоначальных намерений по предоставлению регионам столько свобод, сколько захотят. В октябре 1993 г. с использованием боевых действий вооруженных сил был разогнан Съезд народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации – первой и единственной системной оппозиции Президенту и Правительству РФ. С этого момента у россиян было во многом подорвано вдохновение и вера в возможность демократического обустройства, и с этого же момента начался возврат к экстрактивным институтам. Центр усмотрел угрозу в своем ослабления, и не без повода; первая чеченская война 1994– 1996 гг. отразила реальную опасность потери территориальной целостности страны.
Был сделан иной выбор – переход на реализацию модели «сильный центр и слабые регионы». В 1998 г. была заложена материальная основа выбора: Государственная дума приняла Бюджетный кодекс РФ, определявший разделение федерального бюджета между центром и субъектами Федерации в равных 50%-ных соотношениях. Этот закон, фактически ущемлявший возможность регионов перейти на режим саморазвития, впоследствии еще и игнорировался не в пользу регионов; центр монополизирует в своем распоряжении использование более 90 % добываемых природных ресурсов, централизует более 65 % налоговых доходов и сохраняет устойчивую тенденцию изобретения все новых видов поборов. Бюджетный кодекс является одним из главных экстрактивных институтов, который тормозит формирование инклюзивных институтов, определяемых В. Арслановым [Арсланов, 2016: 38] первичными элементами роста.
Бюджетный кодекс был основой построения во втором десятилетия 2000-х гг. так называемой вертикали власти. Регионы были обязаны унифицировать свои Конституции по полному соответствию конституции РФ. Была изменена административная структура управления; с целью усиления контроля над деятельностью регионов они были включены в территориальные федеральные округа, возглавляемые представителями Президента РФ. Договоры о взаи- моотношениях центра и регионов потеряли актуальность.
В практическом исполнении модели наблюдается явный уход от политической и экономической демократизации. Согласно Конституции РФ, в формировании кадрового состава структур власти, в том числе руководителей регионов, довлеющая роль принадлежит Президенту РФ. Сам Президент в практическом исполнении условий импичмента не может быть отрешен от власти. Практически ожидаемо было возрождение авторитаризма, и, как следствие, стали обыденными нарушения даже позитивных установок той же Конституции РФ. Самое главное нарушение – это отчуждение граждан страны от осуществления контроля над деятельностью органов государственного управления, достигаемое противодействием развитию институтов гражданского общества и подавлением гражданской активности. Посредством искажения системы всеобщих выборов власть оказалась узурпированной несменяемой элитой, возглавляемой авторитарной личностью и не несущей ответственности за результаты социально-экономического развития [Сагидов, 2013: 14–16]. Нарушается закон У. Эшби [Эшби, 1959: 127–129], в основном тезисе которого утверждается, что несменяемость власти сводит к минимуму конкуренцию идей, что ведет к субъективизму и волюнтаризму в принятии управленческих решений.
Результаты выбора модели «сильный центр и слабые регионы»
Характеризуя тридцатилетний период становления в России новой общественной формации, в литературе, как правило, в качестве заметных вех отмечают различные виды кризисов, имевшие место на разных отрезках времени. Так, Г. Клейнер [Клейнер, 2015: 114] называет следующие кризисы: 1) 1990–1992 гг., связанный с трансформационной перестройкой; 2) 1998– 2000 гг. – долговой; 3) 2008–2009 гг. – под воздействием мирового финансового кризиса; 4) с 2013 г. – экономико-политических санкций. Можно добавить, что на последний кризис в настоящее время считается наслаивающимся кризис, связанный с пандемией COVID-19. Такой спектр характеристик не соответствует классическому пониманию сущности кризиса. Результатом преодоления кризиса должен быть выход экономической системы на более высокий уровень развития. В России же ни в одном из ука- занных периодов не наблюдался экономический рост на основе экономического развития и, по данным ВБ и МВФ, сохранялся незавидный рейтинг эффективности экономики по ВВП на душу населения – 50–53-е места среди 188 стран мира.
С 1990 по 1918 г. ВВП России вырос на 241 %. Но, во-первых, если рассматривать этот рост на уровне мировых экономик, то он весьма скромный. Опережающий рост экономики был, например, у Китая – в 9 раз интенсивнее, Вьетнама – в 4,2 раза, Индии – 3,6, Индонезии – 2,2. Уступала Россия по интенсивности роста экономики и ряду развивающихся стран Латинской Америки и Африки, некоторым государствам бывшего социалистического лагеря и даже ближнего зарубежья. Статистика ООН отражает тенденцию снижающегося рейтинга России в экономике мира: в 1990 г. он был определен 7-м местом, в 1999 г. – 9-м, в 2018 г. – 11-м.
Во-вторых, рост экономики был неустойчивым. Его всплески не были результатом развития на основе модернизации. Россия была ориентирована не на развитие производства материальных благ на основе деятельности людей, являющейся, по А. Смиту [Смит, 1993: 7], источником национального богатства, а на выемку из кладовых земли ресурсов, являющихся творени- ем природы, и их продажу в условиях меняющихся мировых цен. Ресурсная ориентация экономики страны сохраняется на протяжении всех последних 30 лет.
Буквально каждая строка таблицы 1 характеризует экономику страны как деиндустриализированную.
Особенно удручают цифры вывоза минеральных продуктов – 64,9 % в общем объеме экспорта на фоне ввоза 47,3 % машин, механизмов, оборудования и транспорта в импорте, а также ввоза высокотехнологичной продукции 67,2 %; вывоза – 11,0 %. Даже визуально наблюдается исчезновение отечественной промышленной продукции, формирующей индустриальную базу хозяйства страны, – электроники, машин, механизмов, технологического оборудования и пр. Зато появилась одноименная импортная продукция. Академик С. Глазьев в своем фундаментальном исследовании отражает, что Россия не только не встала на путь 6-го технологического уклада, осваиваемого развитыми странами, но и значительно утеряла позиции 5-го уклада, формировавшегося в стране в конце 80-х гг. прошлого века [Глазьев, 2018 : 117].
В-третьих, ресурсная ориентация привела к потерям в отраслевой диверсификации экономики,
Таблица 1
Выборка товарных позиций в экспорте и импорте РФ – 2018 г. (млн долл. США, %)
|
экспорт |
импорт |
||||
|
Всего |
449564 |
100 |
238494 |
100 |
|
|
в том числе: Продовольственные товары и сельхозсырье |
24921 |
5,5 |
24736 |
12,5 |
|
|
Минеральные продукты |
291804 |
64,9 |
5012 |
2,1 |
|
|
Продукция химической промышленности |
27416 |
6,1 |
43593 |
18,3 |
|
|
Кожаное сырье, пушные изделия |
255 |
0,1 |
1270 |
0,5 |
|
|
Древесина и целлюлознобумажные изделия |
13911 |
3,1 |
3919 |
1,6 |
|
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь |
1214 |
0,3 |
14845 |
6,2 |
|
|
Металлы, драгоценные камни и изделия из них |
53746 |
11,9 |
17852 |
7,5 |
|
|
Машины и оборудование, транспортные средства |
21746 |
6,5 |
112719 |
147,3 |
|
|
Высокотехнологичная продукция |
49273 |
11.0 |
160253 |
167.2 |
|
Примечание . Составлено по данным Росстата.
продолжению разрушения межрегиональных вертикальных и горизонтальных интеграционных связей, разорению многих предприятий сферы материального производства, размыву комплексности и территориальной сбалансированности экономики, опасному нарастанию различий в уровнях развития регионов. Все это противодействует основам реализации эффектов синергии и эмерджентности в организации хозяйства страны и регионов.
Нельзя не признать иначе как нонсенсом то, что меры по централизации властных полномочий, средств и ресурсов сочетались с часто озвучиваемой центром установкой о необходимости «ухода государства из экономики». Эта установка в фактически сложившихся условиях отсутствия общественного контроля над деятельностью органов государственного управления обернулась уходом органов власти от ответственности за результативность управления социально-экономическим развитием страны [Сагидов, 2013: 15–16].
К сожалению, власти игнорируют научно обоснованные предупреждения ученых о перспективе экономического развития, чреватого приближением к пределу национальной безопасности страны. Как отмечал академик А. Татаркин, при чрезмерной централизации властных полномочий, средств и ресурсов на федеральном уровне и излишней регламентации деятельности органов регионального и муниципального управления неизбежно проявляется неэффективное расточительное отношение к централизуемым средствам. Автор утверждает о необходимости проявления политической воли высшего руководства РФ «пойти на децентрализацию организации управления экономики страны и расширение возможностей нижестоящих органов власти, системнее и на рыночных принципах осваивать институт саморазвития» [Татаркин, 2016: 24].
На этих же позициях находится академик А. Аганбегян. Он отмечает неэффективное расточительное использование центром бюджетных средств, существенное завышение средств на зарплаты руководителей государственных компаний отраслей естественных монополий, а также работников представительных и исполнительных органов власти всех уровней. Автор предлагает «прекратить ежегодное принудительное государственное повышение цен в угоду государственных монополий и олигархов, перекладывая трудности государственной организации на население и других потребителей» [Аганбегян, 2015: 9]. Он акцентирует внимание на том, что все составляющие макроэкономической политики (особенно ценовая, налоговая, кредитная политика, ссудный процент) преследуют преимущественно фискальные цели.
В высказывании обоих ученых виден алгоритм сохранения процесса экономической дистрофии России. То есть, чтобы поддерживать не снижающийся уровень доходов центра, включается механизм их изъятия из регионов, во-первых, посредством повышения цен на продукцию естественных монополий, что ведет к общему росту цен и росту налоговых отчислений, а во-вторых, путем систематического нарастания бремени разных видов платежей регионов. При этом рост совокупности всех платежей регионов центру опережает рост базы их генерации. У большинства регионов как генераторов совокупного воспроизводства экономического потенциала страны не оказывается возможности не только для его диверсифицированного наращивания, но и для обеспечения простого воспроизводства экономического потенциала. Это особенно характерно для регионов с экономикой периферийного характера, таких как, к примеру, 6 отстающих в экономическом развитии регионов Северного Кавказа, Еврейской автономной области, республик Калмыкия, Алтай и Тыва. Именно следствием нарастающего изъятие ресурсов центром стало сокращение числа регионов-доноров и нарастание числа регионов-реципиентов дотационных средств. Следует отметить, что рецентрализация не только не позволила решить проблему сокращения различий в уровнях развития регионов, но даже усугубила ее, возросла территориальная разбалансированность экономики страны [Volkov, 2015: 138–139; Gaber, Polishchuk, Stukal, 2019: 110].
Все больше становится понятным, что путь жесткого централизованного экономического и политического управления, на который поставили страну федеральные власти, бесперспективен. В России усиление централизации власти обычно приводит к авторитаризму, при котором, как правило, проявляются субъективизм и волюнтаризм в проявлении политической воли. Как следствие, во многом нарушается действие экономических законов, которое распространяется в первую очередь на распоряжение экономическими ресурсами. Основными целями и задачами центральной власти России, на решение которых требуется постоянное наращивание значительных средств, являлись и продолжают оставаться геополитические интересы в ближнем и дальнем зарубежье.
Есть вопросы к целесообразности финансирования проектов типа «Северный поток – 2», участия в вооруженных конфликтах в странах Латинской Америки, Африки, Азии, поддержки тоталитарных режимов и так называемых терминами ООН «несостоявшихся государств» типа ЦАР. Подавляющее большинство затрат на претворение указанных целей осуществляется в порядке субъективных несистемных решений, которые ни в текущих периодах, ни в видимой перспективе не дают экономической отдачи и создают инвестиционный дефицит в отечественных отраслях материального производства.
Представляется необходимым, опираясь на данные Росстата и другие источники, более подробно отразить некоторые факторы и условия торможения проявления самостоятельности и ответственности регионов в собственном развитии. Прежде всего, это финансовая несостоятельность большинства регионов, их зависимость от безвозмездных трансфертов, в том числе от дотаций. Регионы России можно подразделить по уровням дотационной зависимости и хозяйственной специализации на следующие группы и подгруппы: 1) не получающие дотации (они представлены 2 финансово-экономическими центрами, 4 регионами сырьевой экспортной ориентации и 7 промышленно развитыми регионами); 2) получающие дотации (это 53 среднеразвитых промышленно-аграрных и аграрно-промышленных и 14 менее развитых сырьевых и аграрных регионов).
В таблице 2 на примере 5 характерных по специализации и социально-экономическому уровню регионов отражаются возможности регионов финансировать затраты по статье «расходы на национальную экономику» в зависимости от доли безвозмездных доходов (в том числе дотаций) в консолидированных бюджетах регионов. Наблюдается связь: меньшие возможности финансиро- вания при больших величинах безвозмездных затрат и большие – при низких их величинах.
Кроме перечисленных выше примеров несообразной траты средств, можно обратить внимание на содержание органов государственного и местного управления. В 1985 г. один чиновник приходился на 115 жителей, а в 2019 г. – на 68. Нагрузка на бюджеты составляла 0,6 % и 6 % соответственно. Расходы на содержание госаппарата в ВВП в России в 2 раза выше, чем в США; в 2,5 раза – чем в Германии; в 3 раза – чем в Англии.
Общая налоговая нагрузка на бизнес в России составляет 46,3 % ВВП и превышает среднемировой уровень на 3 %. Низкий уровень монетизации экономики – 42,8 % ВВП. Денежная масса М2 – 47,1 трлн рублей. В ускоренно развивающихся странах, например в Китае, Южной Корее, уровень монетизации достигает 109– 182 %. Особенно угнетающе воздействуют на активность бизнеса кредитные процентные ставки – не менее 11 %, минимальная сумма кредита – 100 тыс. руб. и ограничение кредитования во времени – 18 месяцев.
В 2019 г. совокупный объем активов банков составил 98,7 трлн руб. – 89,7 % ВВП, однако доля инвестиционного кредитования не превысила 2 % (2 трлн руб.). Похоже, банки ориентированы на фискально-ростовщическую функцию, а не на функцию стимулирования развития экономики. Заметно неравномерное размещение кредитных организации по регионам. Из общего числа 442 организаций в регионах ЦФО функционируют 252 (57,2 %), а в остальных 7 округах размещено 179 организаций, в том числе в СКФО – 10 (2,3 %).
Можно назвать результирующий итог влияния факторов и условий торможения на проявление суверенной экономической активности регионов – годовой объем инвестиций в России не превышает 17,6 % ВВП. Такой объем инвестиций
Таблица 2
Безвозмездные доходы в доходной части и расходы на национальную экономику в расходной части консолидированных бюджетов регионов в 2019 г., млн руб.
|
Регионы |
Доходы, всего |
В том числе безвозмездные доходы |
Доля в доходах, всего |
Доходы, всего |
В том числе на национальную экономику |
Доля в расходах, % |
|
г. Москва |
2 641 504,6 |
72 561,1 |
2,7 |
2 694 799,0 |
8 243 569,0 |
30,6 |
|
Тюменская область |
241 192,4 |
10 769,3 |
4,5 |
222 553,8 |
79 651,1 |
35,0 |
|
Калужская область |
84 430,7 |
15 001,6 |
17,8 |
83 231,6 |
27 806,0 |
27,4 |
|
Республика Тыва |
117 638,0 |
228 534,0 |
19,4 |
118 742,1 |
25 546,1 |
21,5 |
|
Республика Дагестан |
134 786,2 |
91 099,6 |
67,6 |
129 598,1 |
194 355,0 |
15,0 |
Примечание. Составлено по данным Росстата.
ставит под сомнение вероятность расширенного воспроизводства экономики. Для сравнения доля инвестиций в ВВП Японии составляет 36 %, Южной Кореи – 37 %, Китая – 46 %. Средний процент за кредит в этих странах составляет 26 %, а уровень налоговой нагрузки на бизнес – 20–29 %.
Из-за нарастающей остроты дефицита инвестиционных средств центр проявляет диктат в направлении ограниченных инвестиционных средств на финансирование в регионах отдельных федеральных целевых программ, преимущественно касающихся развития объектов социальной сферы. Это положение вкупе с финансовой несостоятельностью подавляющего большинства регионов значительно ограничивает региональные управленческие и предпринимательские структуры в проявлении суверенной инициативы в решении проблем экономического развития.
Так, например, при разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 г. на конечной ее стадии наступило разочарование и сомнение в целесообразности ее завершения, так как стало ясно, что выделение центром средств на развитие экономики ограничивается только целями, предусмотренными майскими указами Президента РФ. Такое же разочарование постигло и другие регионы Северо-Кавказского федерального округа. В этих условиях устремления региональных органов власти акцентируются на конкурентной борьбе за трансфертные вспомоществования, что отодвигает на второй план решение задач экономического развития.
Излишняя централизация экономического управления заводит страну не только в экономическую, но и в политическую ловушку. Нетрудно понять, что центр не желает сокращать рамки централизации, считая ее одним из скрепов предупреждения риска центробежных устремлений регионов и потери территориальной целостности страны. Создается даже впечатление, что федеральный центр относится позитивно к росту количества дотационных регионов, поскольку дотации оказываются пуповиной, привязывающих к нему регионы и являющейся препятствием центробежным устремлениям.
Авторитетный эконом-географ Н. Зубаревич считает, что центр спекулирует угрозой риска потери территориальной целостности, чтобы оправдать сохранение существующей системы политического и экономического обустройства, неэффективной по своей сути. Пока же, считает она, в видимой перспективе Россия приговорена к длительной стагнации, которая отодвигает ее к странам третьего мира [Зубаревич, 2018].
Выводы
Начало системных трансформационных преобразований в России по модели «сильные регионы – слабый центр» было разрушительным. Такой результат был предопределен тем, что общество вышло из предшествовавшей формации, в которой был укоренившийся патернализм и не было ни развитых гражданских институтов, ни вообще культуры демократии, присущей рыночному обустройству. Эти черты во многом сохранялись и в последующих периодах вплоть до настоящего времени. Поэтому отношения «сильные регионы – слабый центр» представляются для России однозначно противопоказанными.
Что касается стратегии развития по модели «сильный центр – слабые регионы», то суждение о ее целесообразности не может быть однозначным. Действительно, чрезмерная централизация федеральным центром властных полномочий, средств и ресурсов вкупе со сбросом изначальной фабулы построения новой общественной формации на принципах политической и экономической демократизации сохраняет страну в состоянии перманентно протекающего кризиса с рядом негативных признаков. Не созданы основы для раскрытия потенциала созидательной деятельности людей. Сохраняется процесс снижения экономической состоятельности регионов, не способствующий их переходу на режим саморазвития. Федеральный центр, в силу принятой формы управления, не заинтересован в переходе регионов на саморазвитие.
Казалось бы, следует отказаться от стратегии «сильный центр – слабые регионы», но история показывает, что в определенных условиях именно такая стратегия выводила развивающиеся страны на опережающее развитие. Яркими примерами могут быть Советский Союз периода индустриализации и современный Китай. Однако в таком исполнении стратегии развития по этой модели, которая нами отражена выше и сохраняется в России в настоящее время, об опережающем развитии не может быть речи. Наоборот, Россия находится в состоянии политической и экономической стагнации с явными признаками деградации.
Логика дальнейшего мышления проста. Если мы видим, что приемлемая стратегия развития дает сбои, то необходимо ее совершенствование с целью нивелирования факторов торможения и стимулирования факторов активного развития. Такое совершенствование может быть осуществлено посредством трансформации действующей модели на качественно иной уровень и в конечном счете иную форму. Ученые-экономисты помнят, что во всем послесоветском тридцатилетии только на одном небольшом отрезке времени была успешной попытка возбуждения развития экономики – это отрезок времени, когда правительство возглавлял академик Е. Примаков. Проявленный им талант позволял тогда и позволяет ныне принять во внимание его видение необходимого обустройства страны. Свои труды, касающиеся этого аспекта, Е. Примаков посвятил необходимости уделить серьезное внимание повышению статуса территориальных социально-экономических систем в социально-экономическом и общественном развитии. Он утверждал, что децентрализация управления является важным условием реализации насущной необходимости «отведения регионам и муниципалитетам роли локомотивов пространственного обустройства России с учетом особенностей структуры их экономики, социально-культурных и национальных традиций» [Примаков, 2015]. То есть речь идет о модели более высокого уровня – «сильные регионы и сильный центр – основа мощи страны», обусловливающей взаимное усиление регионов и центра и являющейся основой сильного государства. Такая модель не новинка в мировой практике. Все развитые страны мира строят отношения между центром и регионами не на основах соподчинения интересов и статусов, а на основах взаимного согласования интересов по вертикальным и горизонтальным связям независимо от формы государственного устройства – федеративного (к примеру, США, Германия), унитарного (Франция, Тайвань) или монархии (Великобритания, Япония). Речь идет об отношениях, близких к рыночным, при которых регионы платят центру налоги, за которые центр предоставляет регионам услуги определенного качества, регулирующие хозяйственную деятельность.
Для реализации модели «сильный центр – сильные регионы» требуются существенные меры совершенствования политических и экономических преобразований. В данной статье не ставится цель решения задачи их подробного обоснования и разработки. Это предмет отдельного глубокого исследования. Однако все же представляется необходимым обрисовать от- дельными штрихами эскиз политического и экономического переустройства в российском социуме как основы решения проблем.
Стартовой позицией согласования интересов является необходимость иметь доктрину Идеи обустройства социума, которая позволяла бы иметь видение его желаемого состояния и определяла бы общую ориентацию и мотивационные цели созидательной деятельности людей. Главное требование к доктрине – Идея должна быть приемлема для подавляющего большинства членов общества.
Но этого недостаточно. Доктрина Идеи – это, как правило, совокупность фабул-лозунгов, определяющих дальние мотивационные цели. В возможность выполнения этих лозунгов можно верить, но можно в них и разувериться, как это было, например, с целями построения в СССР коммунизма к началу 80-х гг. прошлого века. Нереальность этих лозунгов привела людей к неверию не только в идеи коммунизма, но и к разочарованию в существовавшем социализме, приведшему к последующим коллизиям. Выполнимость целей дальней мотивации должна подтверждаться мерами, реализуемыми в текущих периодах , которые позволяли бы поддерживать в общественном мышлении уверенность, соответствующую формуле «Сегодня жизненные условия лучше, чем вчера, а завтра будут лучше, чем сегодня» [Сагидов, 2019: 110–115].
Сказанное определяет необходимость, во-первых, соблюдения в процессах государственного управления позитивных установок Конституции РФ. В настоящее время они во многом нарушаются. В государственном управлении пока слабо участвует общество. Есть вопросы и к сложившейся системе выборов как институту обеспечения продвижения по социальным лифтам в органы управления членов общества высокой профессиональной компетентности, а также имеющее особое значение в согласовании интересов – возможность оценки, контроля и привлечения к ответственности государственных органов власти.
По убеждению автора, в России, ввиду исторически сложившейся формы унитарного территориально-государственного устройства, в видимой перспективе вряд ли целесообразна какая-либо иная форма. Но это не значит, что допустима такая степень авторитаризма, при которой органы власти находятся вне возможности оценки и контроля их деятельности по критериям результативности социального и экономического развития страны и регионов. Поэтому все меры политического обустройства должны быть направлены на достижение эффективной системы этой оценки и контроля. Какие именно должны быть меры, необходимо решать с учетом исторически сложившихся факторов в порядке междисциплинарного подхода – политологами, экономистами, историками, социологами и другими специалистами. Но одной из мер, имеющей принципиальное значение в политическом обустройстве стоит уделить особое внимание. Речь идет о развитии гражданского общества как основы политической и экономической демократизации, при которой управленческий класс будет «приговорен» к эффективной деятельности и ответственности за ее результаты.
В обеспечении реальности развития институтов гражданского общества важно уяснить, что течение этого процесса должно быть независимым от политических амбиций власти. Он будет успешным, если будет соблюдаться принцип – просто не мешать процессу развития. Но тем не менее содействие государства развитию гражданского общества необходимо, поскольку история свидетельствует, что в России успешными были только те реформы, которые инициировались и проводились «сверху» – государством. И эта проводка должна выразиться в следующем.
Парламентам РФ и регионов необходимо: внести поправки в правовые акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, и свести к минимуму допущенные отклонения от институций Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г.; выработать четкий кодекс разграничения признаков конструктивной оппозиции и экстремизма.
Исполнительные органы власти не должны: принимать какие-либо меры по спонсорской поддержке институтов гражданского общества; препятствовать возникновению и саморазвитию гражданских структур и движений; подавлять оппозиционную гражданскую активность, эта формула не распространяется на экстремизм.
Первым важным признаком, свидетельствующим об оживлении гражданского общества, окажется явка на выборы не менее 60 % избирателей, как это было до октября 1993 года.
Остается отметить, что предлагаемые подходы это как бы технологическая сторона преобразований. Этого недостаточно. Они должны одухотворяться и побуждаться какими-то стимулами их реализации. К сожалению, сегодня нет иного видения, кроме ожидания проявления двух взаимосвязанных факторов: всеобщего осозна- ния необходимости перестройки нынешнего нездорового состояния общественной среды и возникновения спроса на лидеров – государственных деятелей патриотического настроя. Это, как называет эти факторы академик О.Т. Богомолов, «неэкономические грани экономики» [Богомолов, 2010: 14].
Список литературы Несостоявшаяся часть фабулы построения постсоветской формации в отношениях "центр - регионы"
- Аганбегян А., 2015. Размышления о финансовом форсаже (по мотивам книги «Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика») // Деньги и кредит. № 8. С. 5–10.
- Арсланов В., 2016. Инклюзивные институты – основной фактор устойчивого роста? Статья 1 // Общественные науки и современность. № 4. С. 36-47.
- Богомолов О., 2010. Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М. : Изд-во ИНЭС. 800 с.
- Глазьев С., 2018. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М. : Кн. мир. 768 с.
- Зубаревич Н., 2018. Шизофрения федерального центра. URL: http://afterempire.info/2018/02/16/zubarevich/ (дата обращения: 26.02.2021).
- Клейнер Г., 2015. Устойчивость российской экономики в зеркале системной экономической теории (Часть 1) // Вопросы экономики. № 12. С. 107–123.
- Лапина Н., 2016. Отношения «центр-регионы» в современной России: пределы централизации» // Портал «Перспективы». URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36290 (дата обращения: 03.04.2021).
- Примаков Е., 2015. Не просто работать, а знать во имя чего. URL: https://mamlas.livejournal.com/3113122.html (дата обращения: 13.01.2021).
- Сагидов Ю., 2013 «Уход государства из экономики» – методологический посыл для коллизий в основах преобразований в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 9 (198), март. С. 12–18.
- Сагидов Ю., 2019. Активизация развития регионов с экономически периферийной части России. М. : Перо. 206 с.
- Смит А., 1993. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги I–III). М. : Наука. 572 с.
- Татаркин А., 2016. Региональная направленность экономической политики Российской Федерации как института пространственного обустройства территорий // Экономика региона. Т. 12, вып. 1. С. 9–26. DOI: 10.17059/2016-1-1.
- Эшби У., 1959. Введение в кибернетику. М. : Иностр. лит. 432 с.
- Acemoglu D., Robinson J., 2012. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. N. Y.: Crown Publishers. 571 p.
- Gaber E., Polishchuk L., Stukal D., 2019. Chronicles of a Democracy Postponed: Cultural Legacy of Russian Transition // The Economics of Transition. Vol. 27, № 1. P. 99–137.
- George A., Robert J., 2012. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why it Matters for Global Capitalism. Princeton : Princeton University Press. 264 p.
- Volkov S., 2015. Social and Economic Disproportion of Development of Russian Territories // Regional and Sectoral Economic Studies. Vol. 15, № 2. P. 137–144.