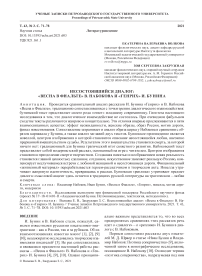Несостоявшийся диалог: "Весна в Фиальте" В. Набокова и "Генрих" И. Бунина
Автор: Волкова Е.В., Закружная З.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Проводится сравнительный анализ рассказов И. Бунина «Генрих» и В. Набокова «Весна в Фиальте», традиционно сопоставлявшихся с точки зрения диалогического взаимодействия: бунинский текст представляет своего рода «ответ» младшему современнику. Гипотеза настоящего исследования в том, что диалогическое взаимодействие не состоялось. При очевидном фабульном сходстве тексты различаются жанрово и концептуально. Эти отличия впервые прослеживаются в пяти взаимосвязанных аспектах: эффект неожиданности, женские образы, образ России, мотив дороги, финал повествования. Сопоставление затрагивает и анализ образа цирка у Набокова в сравнении с образом карнавала у Бунина, а также анализ заглавий двух текстов. Бунинское произведение является новеллой, центром изображения в которой становится описание несостоявшейся любви, внезапно прерванной вмешательством судьбы. Результатом этого вмешательства становится смерть, за которой ничего нет: традиционный для Бунина трагический итог сюжетного развития. Набоковский текст представляет собой модернистский рассказ, основанный на игре с читателем. Центром изображения становится преодоление смерти творчеством. Созданная памятью и воображением новая реальность становится главной ценностью; сделанное, созданное, искусственное заменяет реальную Россию, компенсирует неслучившиеся встречи с любимой женщиной и несостоявшиеся дороги. Фикциональный «жизненный материал» перерабатывается героем-рассказчиком в творческом акте. Новелла утрачивает жанровую идентичность, превращаясь в рассказ. Бунинская «реплика» утрачивает предмет диалога: смысловой акцент здесь остается в традициях русской литературы на трагическом - любви и смерти.
Владимир набоков, иван бунин, «весна в фиальте», «генрих», новелла, мотив дороги, модернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147227344
IDR: 147227344 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.603
Текст научной статьи Несостоявшийся диалог: "Весна в Фиальте" В. Набокова и "Генрих" И. Бунина
И. Бунин и В. Набоков стали, пожалуй, самыми известными русскими писателями-эмигрантами – как в России, так и за рубежом. Об их взаимоотношениях известно много1 [1], [2], [9] [10], неоднократно исследовались творческие взаимосвязи писателей2 [3]. Не раз сопоставлялись и явившиеся предметом настоящей работы рассказы – «Весна в Фиальте» В. Набокова и «Генрих» И. Бунина [4], [9], [10]. Однако принципи-
ально важным представляется то, что во всех предпринятых сравнениях этих рассказов речь идет о «диалоге» – о «реплике» И. Бунина в диалоге с В. Набоковым.
Первым сопоставил рассказы двух писателей М. Д. Шраер в статье «Иван Бунин и Владимир Набоков: Поэтика соперничества» [9], включенной затем в монографическое исследование, посвященное В. Набокову [10]. Он вводит термин «поэтика соперничества», подразумевая под ним попытку прочтения личных и литературных отношений писателей как диалогического текста. Ученый утверждает, что «слава Набокова мучила Бунина» и что Бунин написал цикл «Темные аллеи» исключительно из желания «вернуть себе пальму первенства». Сравнивая рассказы «Весна в Фиальте» и «Генрих», М. Д. Шраер выявляет ряд параллелей между героями этих произведений и их структурами повествования [9]. Ученый подчеркивает модернистский характер рассказа Набокова, «протестом» против которого оказывается рассказ Бунина, написанный, однако, на ту же тему и тот же сюжет.
В дальнейшем исследователи не раз определяли рассказ «Генрих» как реплику Бунина в диалоге с Набоковым (см., например: [5]). Вслед за М. Д. Шраером предпринимались попытки сопоставительного анализа рассказов, но также через призму их диалогического взаимодействия. Так, Г. Н. Ермоленко выявила текстуальные совпадения в рассказах, которые рассматривала как признаки литературной полемики, диалога «мэтров» [4]. Вторя М. Д. Шраеру, Г. Н. Ермоленко пишет, что
«текстуальные совпадения в двух рассказах не случайны, и “Генрих” является своеобразным ответом на “Весну в Фиальте”, так не понравившуюся автору» [4: 170]. При этом «суть разногласий заключается в различной трактовке понятия судьбы – как абсурда у Набокова и как расплаты и возмездия – у Бунина» [4: 166].
В современном литературоведении оба текста традиционно определяются как новеллы, рассказывающие
«о легкой любовной связи, которая неожиданно оказывается настоящей, единственной и роковой любовью, что оба героя понимают во время последней встречи, незадолго до гибели своих возлюбленных» [4: 170].
Исследователи неоднократно выявляли сходства в образной системе и сюжете рассказов, определяя оба произведения как новеллы о любви и судьбе, препятствующей воплощению «истинной» любви. Мы бы хотели попытаться не только внести коррективы в определение основных тем рассказов, но и усомниться в том, что рассказ «Генрих» И. Бунина стоит рассматривать только как реплику в диалоге, как полемику с В. Набоковым. Нам представляется, что сюжетные совпадения (надо отметить, что сам сюжет не нов для русской литературы) и переклички в системе персонажей не являются достаточным основанием для того, чтобы говорить о «реплике в диалоге». Дело в том, что рассказы не только созданы в разных эстетических парадигмах (о чем писал М. Д. Шраер), но и различны в содержательном плане. Ведущие темы бунинско- го текста, действительно, любовь и судьба. А вот у Набокова – память и творчество. На основании этого нам кажется возможным предложить свой вариант сравнения рассказа В. Набокова «Весна в Фиальте» и И. Бунина «Генрих», сделав акцент на различии идейно-тематическом при сюжетной и отчасти структурной схожести.
РАССКАЗ О ПАМЯТИ И ТВОРЧЕСТВЕ: «ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ» В. НАБОКОВА
Нам представляется, что наиболее ярко тема и идея рассказа раскрываются через взаимосвязь пяти основных структурообразующих элементов произведения, характеризующих разные аспекты его формы: эффект неожиданности (обычно характеризующий традиционный новеллистический point), женский образ, образ России, мотив дороги и финал рассказа.
Наиболее очевидна связь эффекта неожиданности («не совсем обманутых ожиданий», по О. Лекманову [7]) с финалом рассказа. В рассказе эффект неожиданности «срабатывает» только один раз – в самом конце, когда читатель понимает, что вся описанная встреча героя с Ниной в Фиальте – прошлое, лишь воспоминания героя (и это наглядно демонстрирует, что время у Набокова, в отличие от Бунина, спиральное, а не линейное). Воспоминанием в рассказе становится не только последняя описанная встреча с Ниной, но и сообщение о ее смерти. Однако смерть Нины отнюдь не является неожиданностью. К гибели героини автор подготавливает читателя на протяжении всего рассказа, с самого первого упоминания о ней:
«Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиаль-те, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание <…> знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом» (524)3.
Образ Нины связывается с финалом рассказа через два элемента – образ России и мотив дороги. На связь образа Нины с мотивом дороги (в восприятии, сознании главного героя) указывает сам автор словами рассказчика:
«Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий <…> paздумывaeт вместе с ней над планом спального вагона» (526).
Вместе с тем именно в этом эпизоде герой впервые предстает перед читателями творцом, создающим художественный образ. Напрямую о том, что герой – писатель, мы узнаем намного позже.
Важно отметить, что и отношения главного героя с Ниной описываются в основном через мотив дороги (реализующийся в образах вокзалов, поездов, вагонов, путевых контор и т. д.), что подчеркивает случайность встреч – в пути, на вокзалах, в чужих городах. Но через мотив дороги описываются только встречи героев уже за границей. С одной стороны, в этом видится некая эмигрантская неприкаянность. С другой стороны, в рассказе не даются описания дороги, пути как процесса, движения, а есть только «точки» (вокзалы, перроны), разделяющие воспоминания героя, которыми он меряет свою жизнь и отношения с Ниной. Отношения безнадежные: со всех вокзалов герои уезжают в разных направлениях. О безысходности их с Ниной отношений ретроспективно говорит и сам герой-рассказчик:
«Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой <…>? Глупости, глупости! <…> Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!» (535).
Важно, что герой Набокова, в отличие от героя Бунина, не видит и не предполагает никакой возможности совместной жизни с героиней. Но еще более важным оказывается то, что герой в финале рассказа отвечает на свой вопрос и находит, «куда сбыть запас грусти» – в творчество. Исследователи, обращаясь к этому «запасу грусти», часто указывают на связь образа Нины с образом утраченной России4. Как кажется, эта связь передается даже через действия Нины, характерно русские: «быстро меня крестила, когда мы расставались», «трижды поцеловала меня» и т. п. Но наиболее очевидна связь России и Нины в сознании героя. Именно с Россией связаны его воспоминания о первой встрече с Ниной, Россия – их общее прошлое:
«…куда это ты меня ведешь, Васенька? – Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия с начала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед»5 (524).
Прошлое, в которое уводит герой Нину, основывается именно на их первой встрече в России. Это то начало, на которое нанизываются в сознании героя воспоминания обо всех последующих встречах с ней. Показательно и сравнение именно с русской сказкой – воспоминания о Нине связы- ваются именно с «русским», с Россией. Важно, что именно со сказкой – то, чего никогда не было, как и отношения с Ниной, которых в действительности никогда не существовало:
«…у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе» (527).
Вместе с тем приведенные эпизоды напрямую соотносятся с темой творчества. Именно в финале предстанет перед читателями сам рассказ: возвращаясь в прошлое, нанизывая воспоминания одно на другое, «вплоть до последнего добавления», герой-художник создает «сказку», историю о «никогда не бывшем». Сходным образом выстроен в рассказе и образ России, тесно связанный с образом главной героини. Обратимся к описанию первой встречи героев:
«Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время износилось… Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы <…> сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара…» (524).
По словам О. Лекманова, «особо отмеченными заслуживают стать два набоковских эпитета – “многообещающее” и “далекого”» [7]. Они соотносятся и с грядущим революционным пожаром октября 1917 года, и с обещанием не только эмиграции героев, но и их эмигрантских встреч. Важной деталью представляются скользкие шаги героев при первой встрече и при первом зареве пожара 1917 года: «…передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание…» (524). Здесь прослеживается связь между первой и последней встречей героев. Место последней встречи – Фиальта. Однако, по сравнению с детальным, подробным ее описанием, описание России – стертое, фрагментарное. Фиальта оказывается несуществующим городом, «городом-фантомом» [7], созданным творческим воображением героя-рассказчика, как и фантомные воспоминания о уже несуществующей прошлой России. И она, и Нина в описаниях героя оказываются тенью – тенью прошлого, тенью несуществующего: «передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание», «следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов», «припоминая его (облик Нины. – Е. В., З. З.), вы ничего не удерживали». Здесь мы во многом опираемся на Е. И. Конюшенко6, считавшего, что для Набокова главной становится не «реальность», а ее преломление в сознании художника, в слове. Не вещь, а отражение/воссоздание вещи в языке и художественном слове становится единственной достоверной реальностью для Набокова. Это наиболее очевидно воплощается в финале рассказа. Нина умирает. Ее гибель - несчастный случай, к которому, однако, читателя готовят на протяжении всего рассказа. Нина умирает, а муж ее, которому она пыталась подражать, «отделался лишь местным и временным повреждением чешуи» (539). При этом о муже мы знаем, что он писатель, но произведения его пусты. Вероятно, именно поэтому он остается живым, а героиня погибает. В финальных строчках рассказа удивительным образом «смертность» подчеркивает то, что героиня была «живой». Смерть Нины становится ее бессмертием - ее жизнью в памяти главного героя, в его воображении и творчестве:
«...будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины...» (529).
Здесь важно рассмотреть связь кульминации рассказа (попытка признания в люб -ви главного героя) с финалом. Признавая двое-мирие рассказа («...когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном, времени» (535)), можно предположить, что любовь - как раз не земное чувство, принадлежащее второму, иному миру, в который переходит Нина. Так трактует смерть героини М. Шра-ер. Нам кажется возможным предположить, что создают этот иной мир, иное пространство именно память и творчество героя-художника. Герой переживает «наивысшую точку любви», и для него открывается этот иной мир (символ его - сияющее небо над Фиальтой). Нина «переходит» в этот иной мир и обретает бессмертие в памяти и творчестве героя:
«...и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем...» (539).
Важным для понимания финала рассказа нам кажется образ цирка, повторяющийся на протяжении всего рассказа (начиная с афиш на стенах домов и заканчивая фургоном, при столкновении с которым погибает Нина). М. Д. Шраер трактует цирк как «маркированные знаки иного мира», указывая на «небесную родину циркачей» [9]. Вместе с тем цирк - тоже спектакль, игра:
«...все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней» (525).
Здесь нам видится элемент игры Набокова -с реальностью, с читателем. Писатель создает иное пространство в рамках рассказа, подчеркивая (посредствам образа цирка, театра, декораций и т. п.) искусственность, созданность героев рассказа и их судеб. Кроме того, нам кажется, что образ цирка выполняет функцию некого «снижения» смерти, как следствие - в рассказе нет трагичности (бунинской): «.. .ни тени трагедии нам не сопутствовало...» (534).
Основное смысловое ядро рассказа выявляется в финальных строках: именно в них собираются воедино все заявленные элементы, именно здесь читатель понимает, что перед ним - воспоминания, творчески переосмысленные, искусственно сконструированные героем-творцом. Искусственность рассказа подчеркивается на протяжении всего произведения: сообщениями о никогда не бывших отношениях с Ниной, о не существующей уже России, сравнениями событий с декорациями к спектаклю, образом цирка и театра, проходящим через весь текст, рассуждениями о творчестве («рассудка не возил бы по маскарадам», «не допускал бы рассудок в творчество»), событиями, разворачивающимися в несуществующем городе, «играми с читателем» (интересно, например, неоднократное появление англичанина, ловящего бабочку) и т. д. Но именно в финале воспоминания о Нине, сопряженные с воспоминаниями о России, бывшие разрозненными «дорожными» эпизодами, «точками», собираются в сознании героя-творца и выстраиваются в художественный нарратив. Тем самым рассказ оказывается о памяти - источнике творческого переосмысления жизни. О вдохновении - герое-творце, который «внезапно понял то, чего, видя, не понимал дотоле». О любви, но не бунинской «любви-страсти», а о любви как источнике творчества. Надо отметить, что это частый сюжетный ход в произведениях эмигрантов младшего поколения (ср., например, «Вечер у Клэр» Г. Газданова, рассказ В. Варшавского «Из записок бесстыдного молодого человека» и др.). Воспоминания о родине и любимой женщине становятся основой творческого переосмысления действительности: «сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем». И, конечно, о бессмертии: вспомнить -значит оживить в настоящем, дать новую жизнь в творческом переосмыслении реальности.
Подобную роль память нередко играет в образной системе прозаиков-эмигрантов «незамеченного поколения»7.
«Весна в Фиальте» - несомненно, модернистский текст, основанный на моделировании реальности, игре с читателем, основной темой которого является память и творчество.
НОВЕЛЛА О ЛЮБВИ И СМЕРТИ: «ГЕНРИХ» И. БУНИНА В СРАВНЕНИИ С «ВЕСНОЙ В ФИАЛЬТЕ» В. НАБОКОВА
В отличие от модернистского расска-за Набокова, «Генрих» - новелла, созданная в традициях классической русской литературы. Структурообразующими в бунинском рассказе оказываются те же элементы, что и у Набокова. Однако если у Набокова они создают модер -нистский текст, двоемирие, образ героя-художника, репрезентируют тему творчества и памяти, то в «Генрих» они создают традиционную новеллистическую структуру, воплощают тему любви и судьбы.
В отличие от рассказа Набокова, в бунинском эффект неожиданности срабатывает трижды. Первый раз, когда мы видим, что Генрих ожидает главного героя уже в поезде, а не за границей, как мы могли предполагать. Второй раз - когда мы узнаем, что Генрих - женщина, чего мы никак не ожидаем, помня фразу главного героя в самом начале рассказа: «.в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ» (471) 8 . Третий раз эффект неожиданности срабатывает в самом конце рассказа - смерть Генрих оказывается для нас неожиданностью (важно отметить, что мы рассматриваем рассказ «Генрих» вне контекста сборника «Темные аллеи»). Таким образом, эффект неожиданности оказывается связанным сразу с тремя элементами: женскими образами, образом дороги и финалом рассказа.
Исследователи уже отмечали, что в рассказе Бунина (в отличие от набоковского) два типа треугольников: женщина и двое мужчин-соперников, с одной стороны, Глебов и три его женщины -с другой (см., например: [8]). Н. Ю. Лозюк так интерпретирует женские образы в рассказе:
«Надя и Ли - женские образы, в структуре повествования соотнесенные с Москвой, с их помощью писатель стремится передать странный облик города, где причудливым образом сплетается Восток и Запад. Внешность Нади типично русская. Необычное имя Ли отсылает к Востоку», а «во внешности Генрих все указывает на ее европейское происхождение» [8], - замечает исследователь, соотнося тем самым образ Генрих с Европой. Однако нам кажется, что безоговорочно соотнести эти два образа нельзя. Представляется, что в образе Генрих происходит совмещение России и Европы. Подтверждают эту мысль несколько деталей: во-первых, Генрих занимается переводами с немецкого языка на русский, во-вторых, будучи европейского происхождения, живет героиня в России. Показательно и такое описание:
«Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром <...> была уже заграница» (473).
Однако в этот момент поезд стоит у перрона московского вокзала, и Генрих ждет Глебова в этом вагоне: совмещается Европа - «заграница» вагона, в котором она ждет Глебова, и Россия - ведь Генрих вместе с заграничным вагоном находится на вокзале в Москве. В образе Генрих так же, как и в образе Нины из набоковского рассказа, проявляется мотив двоемирия (Россия - Запад) и, вероятно, тот же конфликт, невозможность совмещения этих двух миров, ведь любовник-австриец убивает Генрих, когда она предполагала договориться с ним о сотрудничестве (совмещении).
Соотнесенность женских образов с Россией и Западом дает возможность говорить об отличии бунинского образа России от набоковского. В отличие от Набокова Россия Бунина - реальность, а не воспоминания. В понимании Бунина только в России возможны жизнь и любовь: Россия для главного героя - реальная, настоящая жизнь (а не смутные воспоминания о несуществующих отношениях героя Набокова). Заграничная жизнь - искусственна, в рассуждениях героя явно прослеживается негативное отношение к ней:
«стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное» (471), «жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь» (472), «после России, все казалось очень мало - вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей» (478).
В то время как в рассказе Набокова нет собственно образа России, она существует только в сознании героя и связана прежде всего с Ниной. По сравнению с подробным, детальным описанием Фиальты, описания России в рассказе Набокова практически нет, кроме деталей, напрямую соотнесенных с воспоминаниями о Нине. В рассказе же Бунина - детальное описание России (Москвы, московской зимы).
Образ Генрих непосредственно связан с мотивом дороги. В отличие от «Весны в Фиальте», в бунинской новелле изображена именно дорога, путь. И здесь нам кажется возможным интерпретировать его как некий поиск: «И правда, зачем я еду? <…> всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое» (471). В данном контексте, вероятнее всего, поиск счастья. Но одновременно создается ощущение невозможности этого счастья: его нет сейчас, здесь, в точке, где находится герой, но и «где-то там» («неизвестно где») – непонятно, есть ли это счастье вообще или только «всегда кажется». Ключевым моментом, связанным с мотивом дороги, является пересечение границы. Оно происходит сразу после объяснения героев, вслед за классическим для Бунина изображением наивысшей точки любви. Здесь очевидна параллель с рассказом Набокова: в набоковском рассказе кульминация также приходится на момент признания в любви героя, происходит то же «пересечение границы». Однако в текстах кардинально различаются направления дальнейшего развития и, соответственно, финалы. У Набокова далее – сияющее небо над Фиальтой, открытие иного мира и бессмертие, новая жизнь всего, что дорого герою в новом измерении, созданном воображением и памятью. В рассказе же Бунина далее, когда Генрих уже сошла с поезда и герой остается в одиночестве, – путь «вниз»:
«вечер на каком-то перевале» (480), «потом – все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее» (480), «а дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз» (480).
Завершается этот путь сообщением о смерти Генрих. И не при солнечном ширящемся небе над Фиальтой, а «при гаснущем свете зари» (483). Здесь становится наиболее очевидна связь мотива дороги с финалом рассказа. Финал характерен для бунинского понимания любви: настоящая любовь, по мнению Бунина, может быть только мгновенной вспышкой, она не может иметь продолжения. «Читатели “Генриха” покидают рассказ ошеломленные внезапной концовкой. В памяти читателя – лишь стена смерти, конец невозможной любви» [9: 58]. Там, где у Набокова начинается бессмертие, созданное памятью и воображением, новая реальность, жизнь в другом измерении, у Бунина – смерть, и ничего за ней (перевал, за которым начинается стремительное движение вниз, завершающееся при гаснущем свете зари). В этом нам видится главное отличие новеллы Бунина от рассказа Набокова. Бунинское произведение – о любви, об обретении истинной любви и смерти, следующей за ее постижением, о невозможности преодоления судьбы. Рассказ Набокова – о творчестве, памяти, преодолении смерти и воссоздании даже «никогда не бывшей» любви. У Набокова герой находит способ воскресить мертвых, оживить никогда не бывшее, найти исход тоске в творчестве. Бунин – не находит.
С финалами рассказов непосредственно связан образ цирка у Набокова и карнавала у Бунина. Н. Ю. Лозюк, например, связывает мотив карнавала у Бунина с новеллистической структурой: сама идея карнавала предполагает подлог, «одно выдается за другое: маска – за лицо, псевдоним – за настоящее имя, женщина – за мужчину» [8]. Вместе с тем карнавал – праздник, который заканчивается, как и вспышка истинной любви. То, что у Набокова является элементом игры (с реальностью, литературой, читателем), у Бунина раскрывает идею рассказа. То, что у Набокова снижает трагичность, у Бунина подчеркивает ее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при очевидных совпадениях в рассказах (оба главных героя уезжают; деятельность обоих героев связана с искусством, литературой; оба испытывают «прилив любви»; наличие любовных треугольников; гибель женщин от европейцев-писателей и т. д.), о которых говорилось, перед нами два совершенно разных по своей смысловой наполненности произведения. Наиболее очевидно это различие проявляется в финалах, где обозначенные структурообразующие элементы (эффект неожиданности, женский образ, образ России и мотив дороги) собираются воедино и реализуют основную смысловую концепцию рассказов. У Бунина – отъезд из настоящей, реальной России, дорога в поисках счастья, «наивысшая точка любви», пересечение границы, за которым – стремительное движение вниз, смерть – и ничего после нее. У Набокова – воспоминания о давно потерянной России, о случайных встречах с Ниной в дорогах, никогда не бывших отношениях с героиней и даже ее смерть трансформируются в сознании героя-художника и обретают новую жизнь, создают новую реальность, обретают бессмертие – в памяти и творчестве.
Основную тему рассказов (и принципиальное их различие) отражают и их заглавия. В заглавии «Весны в Фиальте» можно выявить два компонента. С одной стороны, «весна» – традиционно связанная в литературе с возрождением, оживлением, началом новой жизни. С другой стороны, «в Фиальте» – несуществующем городе-фантоме, в вымышленном пространстве. Его вымышленность подчеркивает и неоднократное упоминание в рассказе реальных европейских городов. При этом они возникают в памяти героя как места прежних встреч с Ниной. Таким об- разом, название рассказа подчеркивает его основной смысл: воссоздание прошлого в памяти героя-творца, творческое переосмысление и преображение этого прошлого в вымышленном пространстве возрождают все то, что герою дорого, оживляют это и даруют ему бессмертие.
Заглавие бунинского рассказа – «Генрих» – с одной стороны, подчеркивает его новеллистический характер (неожиданное открытие того, что Генрих – женщина). Вместе с тем в заглавие оказывается вынесено имя главной героини, объекта любви, что с очевидностью подчеркивает основную тему рассказа – любовь.
Таким образом, мы считаем возможным не согласиться с традиционным определением обоих рассказов как новелл о несостоявшейся любви, прерванной вторжением судьбы. Такое определение вполне соответствует новелле Бунина, но не рассказу Набокова.
При очевидном совпадении отдельных образов и сюжетных ходов в рассказах их идейнотематические отличия позволяют нам поспорить с исследователями, видевшими в них диалог, оценивавшими бунинский рассказ как реплику в диалоге с Набоковым. Как представляется, для диалога необходим все же единый предмет обсуждения, единая тема. Нам видится, что именно ее в этих двух рассказах и нет. Новелла Бунина – о любви-страсти, судьбе, поиске, смерти. Рассказ Набокова – о творчестве, памяти, воображении, бессмертии.
Список литературы Несостоявшийся диалог: "Весна в Фиальте" В. Набокова и "Генрих" И. Бунина
- Бойд Б. Владимир Набоков: Американские годы: Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. 950 с.
- Бойд Б . Владимир Набоков: Русские годы: Биография. М.: Независимая газета; СПб.: Симпозиум, 2001. 695 с.
- Двинятина Т. М. От «Несрочной весны» к «Позднему часу»: И. Бунин и В. Набоков 1929-1930 гг. // Россия Ивана Бунина и культура русского Подстепья (к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина): Материалы Всерос. науч. конф. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2020. С. 116-125.
- Ермоленко Г. Н. К проблеме интертекстуальных связей в прозе Набокова и Бунина: новеллы «Весна в Фиальте» и «Генрих» // Русская филология: ученые записки Смоленского государственного университета. 2013. Т. 15. С. 166-177.
- Закуренко А. «Темные аллеи». О рассказах Ивана Бунина // Топос. Литературно-философский журнал. 2005. 15 ноября [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.topos.ru/article/4188 (дата обращения 31.01.2021).
- Клех И. Убийство в Фиальте // Русский журнал. 1999. 23 апреля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.russ.ru/krug/99-04-23/klekh.htm (дата обращения 08.03.2012).
- Лекманов О. Принцип не совсем обманутых ожиданий. По рассказу Владимира Набокова «Весна в Фиальте» // Литература. 2003. № 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lit.1september.ru/articlef. php?ID=200300310 (дата обращения 31.01.2021).
- Лозюк Н. Ю. Композиционный ритм в новелле И. Бунина «Генрих» // Вестник ВГУ Серия: Филология. Журналистика. 2008. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/ phylolog/2008/02/2008_02_13.pdf (дата обращения 31.01.2021).
- Шраер М. Д. Иван Бунин и Владимир Набоков: Поэтика соперничества // И. А. Бунин и русская литература XX века. М.: Наследие, 1995. С. 41-65.
- Шраер М. Д. Набоков и Бунин. Поэтика соперничества // Шраер М. Д. Набоков: темы и вариации. СПб.: Академический проект, 2000. С. 128-192.