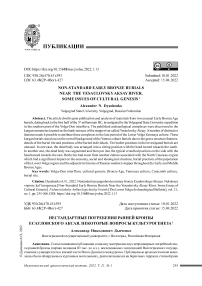Нестандартные погребения ранней бронзы Есауловского Аксая. Некоторые вопросы культурогенеза
Автор: Дьяченко Александр Николаевич
Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu
Рубрика: Публикации
Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена публикации и анализу материалов двух неординарных погребений эпохи ранней бронзы (первая половина III тыс. до н.э.), исследованных экспедицией Волгоградского государственного университета в южной части Волго-Донского междуречья. Публикуемые археологические комплексы были обнаружены в курганных могильниках, располагавшихся на береговых террасах степной реки Есауловский Аксай. По ряду характерных признаков они относятся к позднему этапу ямной культуры Нижнего Поволжья. Особенности могильных конструкций, детали погребального обряда и позиции погребенных людей выделяют эти объекты из общего контекста подкурганных захоронений ямной культуры. Положение погребенных в них не стандартно. В одном случае умерший был помещен в могилу в положении сидя, с ориентацией головой на юг, в другом - в расчлененном виде, с приданием костным останкам канонического скорченного положения на боку и ориентацией на восток. Оба ритуала имеют инокультурные корни, связанные с северокавказским регионом, который на протяжении раннего бронзового и среднего бронзового веков оказывал существенное влияние на экономику, социально-идеологическую структуру и погребальную практику не только населения Нижнего Поволжья, но и соседних территорий южнорусских степей.
Волго-донское междуречье, культурогенез, бронзовый век, ямная культура, катакомбная культура, погребальный обряд
Короткий адрес: https://sciup.org/149140593
IDR: 149140593 | УДК: 930.26(470.45):393 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2022.1.13
Текст научной статьи Нестандартные погребения ранней бронзы Есауловского Аксая. Некоторые вопросы культурогенеза
DOI:
Предлагаемая статья посвящена публикации и анализу материалов двух неординарных погребальных комплексов ранней бронзы, обнаруженных экспедицией ВолГУ при раскопках курганных могильников Абганеро-во V и Аксай I, располагавшихся в южной части Волго-Донского междуречья в бассейне степной реки Есауловский Аксай, на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области (рис. 1). Работы на указанных археологических объектах были проведены в 1996 и 1997 гг. соответственно [Дьяченко, 1996; 1997; Дьяченко и др., 1999, с. 93–126]. Публикуемые археологические материалы представляют определенный интерес с точки зрения изучения динамики и направленности процессов культурогенеза в южнорусских степях в бронзовом веке.
Природно-географическая характеристика района исследований
В пределах Волго-Донского междуречья размещается северная часть Ергенинской возвышенности (Северные Ергени). По особенностям истории развития и типам рельефа она относится к денудационно-аккумулятивной пластовой возвышенности с преобладанием в рельефе волнистых водоразделов и плавных склонов речных долин и балок. Восточный склон протяженностью 5–12 км резко переходит в полупустынную зону Прикаспийской низменности. Западный склон, на территории которого расположены представленные па- мятники, входит в зону сухих степей. Он имеет протяженность 80–100 км, плавно опускаясь к долине Дона. Его поверхность прорезана неглубокими долинами малых рек Донского бассейна, таких как Донская Царица, Мыш-кова, Аксай Есауловский и Аксай Курмоярс-кий. Большая часть территории распахана, сохранившиеся целинные участки с естественным растительным покровом (преобладают злаково-полынные ассоциации) используются под пастбища. На западном склоне Ергенинской возвышенности доминируют каштановые почвы, на восточном – светлокаштановые [Борисов и др., 2006, с. 61, 62].
Курганные могильники в Волго-Донском междуречье располагаются, как правило, по береговым террасам малых степных рек и на водораздельных участках, приуроченных к речным долинам. Эпоха ранней бронзы в этом регионе представлена в основном подкурганными захоронениями ямной культуры, древнейший этап которой восходит к энеолиту, а поздний соотносится с начальным периодом среднебронзового века, с распространением в степном Предкавказье, Нижнем Подонье и Нижнем Поволжье ранних катакомбных культур. В общей массе относительно стандартных захоронений ямной культуры с доминированием прямоугольных, широтно ориентированных могильных сооружений, положением умерших скорченно на спине или на боку и преобладающей ориентацией в восточный сектор на территории ВолгоДонского междуречья спорадически встречаются захоронения с явными признаками отклонения от стандартных норм погребаль- ной практики носителей ямной культуры. Ниже дается археологическое описание и анализ двух таких захоронений.
Объекты исследования
Курганная группа Абганерово V, кург. 1, погр. 9 (рис. 1, 3, 1 ). Группа из трех курганов находилась на пологом левобережном участке надпойменной террасы р. Есау-ловский Аксай (верхнее течение), в 500–700 м к ЮВ от окраины с. Абганерово Октябрьского района. Раскопки проведены на кург. 1, располагавшемся на целинном участке береговой террасы у окраины населенного пункта. Курган достаточно крупный, его диаметр составлял 35–36 м, высота 1,36 м. Следов досыпок в профилях бровок не зафиксировано [Дьяченко, 1996].
В процессе раскопок обнаружено 9 разновременных погребений. Интересующее нас погребение 9 являлось основным и, соответственно, самым древним. Оно располагалось в центральной части кургана. Впускные погребения хаотично размещались вокруг основного. Культурная принадлежность впускных погребений в хронологической последовательности такова: волго-донская катакомбная культура, криволукская культурная группа (посткатакомбное время), покровская и срубная культуры поздней бронзы, черногоровская культура (предскифское время), раннесарматская и позднесарматская культуры РЖВ.
Погребение 9 было совершено в обширной подпрямоугольной яме с закругленными углами, ориентированной по оси С–Ю (рис. 3, 1 ). Размеры могильной ямы по верху: длина – 2,3 м, ширина – 1,95 м. Глубина могильного сооружения от уровня древнего горизонта – 3,0 м. На глубине 1 м от края зафиксирован неширокий сглаженный уступ (заплечик), идущий по периметру ямы. Его ширина варьирует от 5–10 см в торцевых сторонах до 15–23 см в продольных сторонах могильной ямы. На уровне заплечиков в за-сыпи ямы располагалось впускное предскиф-ское погребение, которое, вероятнее всего, не потревожило контуры могильного сооружения основного погребения 9. Ниже уровня заплечиков параметры ямы несколько уменьшились - до размеров 2,2 х 1,6 м.
На дне могильной ямы у южной торцевой стенки обнаружены костные останки человека (мужчина старческого возраста), погребенного в весьма специфической позе. Костяк лежал на спине с подогнутыми ногами, пяточные кости стоп находились под тазом, а бедренные кости и прижатые к ним кости голеней были приподняты, коленями упирались в южную стенку. Слегка разведенные в стороны руки кистями направлены к бедрам. Позвоночный столб был отклонен к оси СВ–ЮЗ, шейный отдел позвоночника «переломлен», при этом череп лицевой частью находился на «груди», а теменной был обращен к южной стенке ямы. Столь необычное положение костяка объясняется тем, что умерший мужчина был погребен сидя, на «корточках», лицом вплотную к южной торцевой стенке могильной ямы. Для фиксации тела погребенного в «сидячем» положении руки, вероятно, были привязаны к лодыжкам, а голова должна была упираться в стенку могилы. С разрушением связок и мышечной ткани погребенный завалился на спину, голова при этом упала на грудь.
Вещевой материал отсутствовал, каких-либо ритуальных красящих или органических веществ также не выявлено.
Курганный могильник Аксай I, кург. 9, погр. 8 (рис. 1, 2, 1–3 ).
Могильник Аксай I, включающий более 20 курганов, располагался в левобережной части долины среднего течения р. Есауловс-кий Аксай, в 2,5 км к ЮЗ от с. Аксай Октябрьского района. Памятник размещался относительно компактно в пределах первой надпойменной террасы реки. Основная его часть была исследована в 1997 г. [Дьяченко, 1997; Дьяченко и др., 1999, с. 104–106].
Курган 9 имел оплывшую уплощенную насыпь высотой 0,5 м и диаметром 20 м. В процессе раскопок обнаружено каменное кольцо – кромлех, окружавший основное ям-ное погребение 8 (диаметр кольца – 16 м). Каменная кладка была возведена из крупных обломков светло-серого песчаника в несколько слоев на древней поверхности степи. Ее ширина на разных участках кольца – от 20 до 50–60 см, высота – до 40 см. Помимо основного в пределах каменного кольца находилось 11 впускных погребений, датированных в хронологической последовательности раннеката- комбным временем (донецкая катакомбная культура), поздней бронзой (покровская и срубная культуры) и ранним железным веком (савроматская и раннесарматская культуры).
Основное погребение 8 было совершено в могильной яме, имевшей в верхней части аморфную округлую форму. К низу стенки плавно сужались, и по дну яма приобрела подпрямоугольную форму с закругленными углами, продольной осью ориентированную по линии ВСВ–ЗЮЗ. Размеры ямы по верху – 1,6 х 1,5 м, по дну - 1,4 х 1,1 м. Глубина могильного сооружения от уровня древней поверхности 1,73 м (рис. 2, 1 ).
На дне обнаружены останки мужчины 50–60 лет, находившиеся в довольно необычном положении. Ноги, согнутые в коленях под острым углом, в коленных и тазобедренных суставах были сочленены. Колени направлены к юго-востоку. Около левого бедра лежала часть грудной клетки, на ней находилась правая рука, согнутая в локте и неестественным образом смещенная к тазу. Рядом с правой плечевой костью находился череп человека, лежащий на левой стороне, лицевой частью обращенный к ВЮВ. Позвоночник, за исключением двух позвонков, лежащих в стороне от тела, отсутствовал. Левая рука, сочлененная в локтевом суставе, была неестественно развернута и локтем обращена в сторону головы. При детальном осмотре костного материала было установлено, что умерший мужчина был захоронен «вторично», вероятно, после полного скелетирования за пределами могильного сооружения. В определенный момент освобожденное от мягких тканей тело было помещено в могильную яму в расчлененном виде, по частям. Первоначально были уложены нижние конечности, затем сохранившаяся часть грудной клетки, верхние конечности и череп. Судя по расположению частей тела, совершавшие обряд стремились придать останкам каноническое скорченное левобоч-ное положение с ориентацией в восточный сектор.
В заполнении могильной ямы, чуть выше коленей погребенного был найден каменный предмет сигарообразной формы ромбического сечения с обработанными гранями (оселок?). Длина изделия 5 см, материал – темно-серый галечник (рис. 2, 3 ).
Около левой руки погребенного на дне могильной ямы находился небольшой тонкостенный плоскодонный сосуд баночной формы, часть тулова расслоилась. Тесто в изломе слоистое, с обильной примесью толченой ракушки. Высота сосуда – 8 см, диаметр устья – 8,6 см (рис. 2, 2 ).
Обсуждение
Вопрос культурной атрибуции представленных захоронений достаточно сложен, в первую очередь по причине малого количества диагностирующего вещевого материала. В то же время стратиграфические данные, некоторые характерные детали погребального обряда и особенности могильных конструкций позволяют рассматривать публикуемые комплексы в рамках позднего этапа ранней бронзы и, соответственно, соотнести их с поздне-ямными погребальными памятниками ВолгоДонского региона. Косвенно о ямной принадлежности описываемых комплексов могут свидетельствовать и имеющиеся данные па-леопочвенных исследований. В соответствии с ними погребенные почвы в курганах ямного времени бассейна Есауловского Аксая обладают характерными устойчивыми признаками и по целому ряду показателей существенно отличаются от погребенных почв предшествующей эпохи энеолита и последующей эпохи средней бронзы [Борисов и др., 2006, с. 62–77].
Оба рассматриваемых погребения являются основными, совершены в одном случае в подпрямоугольной яме с заплечиками по периметру, в другом – в округлой грунтовой яме. Обе могильные конструкции для ямных погребений Волго-Донских степей являются более поздними формами в сравнении с классическими прямоугольными ямами с широтной ориентацией. Их появление синхронно распространению в Волго-Донском междуречье ранних катакомб, меридиональных ориентировок и нестандартных позиций погребенных – сидячих, расчлененных или пакетированных. Эти процессы конвергенции на определенном этапе приводят к возникновению в регионе целого культурного пласта из смешанных ямно-катакомбных памятников, в которых в различных пропорциях сочетаются архаичные древ- неямные черты и элементы новых погребальных традиций носителей катакомбных культур [Дьяченко, 1992, с. 79–90; Мамонтов, 2000, с. 67–70; Демиденко, Мамонтов, 2017, с. 24, 25, рис. 32,9].
Большой интерес в плане изучения направленности культурогенетических процессов представляет «сидячее» погребение из кургана 1 могильника Абганерово V. Захоронения со столь неординарным положением умершего фиксируются в памятниках разных эпох – от энеолита и эпохи бронзы до раннего железного века [Хлобыстина, 1991, с. 32–36; Шишлина, 1997, с. 10–13; Шилов, 1985, с. 140– 144; Мерперт, 1974, с. 33, 90; Мимоход, 2021, с. 52–62; Перерва и др., 2021, с. 159–180]. Внутри культурных общностей бронзового века степной полосы Евразии сидячие погребения встречаются относительно редко и, как правило, не составляют какой-либо обособленной группы. В курганах они могут быть как основными, так и впускными, при этом сам ритуал и его обустройство демонстрируют неординарный прижизненный статус погребенного индивида. В нашем случае нестандартный статус умершего подчеркивают довольно значительные параметры курганной насыпи и внушительный объем могильного сооружения. В Нижнем Поволжье и сопредельных территориях степного Предкавказья положение умершего «сидя» чаще всего фиксируется в материалах ямной культуры, особенно на позднем этапе ее существования [Мерперт, 1974, с. 33; Шилов, Багаутдинов, 1998, рис. 8,1; Шилов, 1985, с. 144; Шишлина, 1997, с. 12, 13]. Н.Я. Мерперт, ссылаясь на сидячее погребение у хутора Степана Разина и некоторые другие аналогичные памятники в Заволжье, относил их к позднеямному времени, к периоду формирования полтавкинской культуры. При этом в погребальном обряде и в вещевом материале этих комплексов он отмечал очевидное влияние северско-донецкой катакомбной культуры и позднемайкопской (новосво-бодненской) культуры Предкавказья [Мер-перт, 1974, с. 69, 72]. В.П. Шилов, обнаруживший при раскопках могильника у с. Цаца в кург. 7 впускное ямное захоронение (№ 12) с погребенным в позиции «сидя» (рис. 3,2,3), относил его к поздней третьей хронологической группе по Н.Я. Мерперту, синхронизируя с новосвободненским этапом майкопской культуры [Шилов, 1985, с. 143–144].
Н.И. Шишлина, анализируя сидячие погребения степного Ставрополья и Калмыкии, отметила ряд характерных черт, присущих захоронениям с подобным ритуалом. Среди них – частое отсутствие погребального инвентаря, сочетание положения «сидя» с заплечи-ковыми ямами и ранними катакомбными могильными конструкциями, распространение южных ориентировок как признака майкопской культуры Предкавказья. На основании выделенных специфических черт она относит сидячие погребения Ставрополья и Калмыкии к позднемайкопскому времени. В эту же группу памятников включает и погребение 12 кургана 7 могильника у с. Цаца на юге Волгоградской области [Шишлина, 1997, с. 10; 2007, с. 58–60].
Некоторые из перечисленных признаков – расположение погребения в центре кургана, заплечиковая форма могильной ямы, южная ориентировка погребенного при отсутствии инвентаря, фиксируются и в сидячем погребении мог. Абганерово V, находящегося в 60 км на ЗЮЗ от могильника у с. Цаца, практически на одной широте с последним (рис. 1). На основании перечисленных факторов вполне допустимо включение абганеровского погребения в круг памятников раннебронзовой эпохи с признаками влияния позднемайкопской культурной общности.
Интересной особенностью сидячих погребений ранней бронзы, на которую исследователи обратили внимание еще в прошлом веке, является их гендерная специфика [Хло-быстина, 1991, с. 35, 36; Шишлина, 1997, с. 13; Шилов, Багаутдинов, 1998, с. 176, 177]. Большинство из них принадлежит субъектам мужского пола, в том числе и абганеровское погребение. Объяснение возникновения этого феномена дается самое разное. Некоторые исследователи носителей данной погребальной традиции относят к «особой социальной группе» своеобразных медиаторов, выполнявших в среде ямной общности разного рода «дипломатические» миссии – от хозяйственно-торговых до идеологических [Шишлина, 1997, с. 13]. Другие исследователи, подчеркивая «престижность» сидячих мужских погребений, связывают появление этого ритуала с изме- нением прижизненного статуса мужчины, с возрастанием его роли как главы семейнородовой общины, с зарождением культа предков [Хлобыстина, 1991, с. 36].
На взгляд автора, материалов для столь далеко идущих выводов о статусе сидячих погребений пока еще не достаточно. Семантическая подоплека обряда также сложна и неоднозначна. Определенно можно утверждать, что для нижневолжских степей появление этого ритуала – событие неординарное и связано оно с усиливающимся влиянием инокультурных традиций, прежде всего со стороны северокавказских центров культурогенеза эпохи ранней бронзы. В степном Предкавказье (Ставрополье и Калмыкия) погребения с «сидячим» обрядом появляются в связи с продвижением на север носителей майкопско-навосвободненс-кой общности [Кореневский, Калмыков, 2003, с. 70–74]. Большинство этих памятников датируется серединой – второй половиной IV тыс. до н.э. [Кореневский, Калмыков, 2003, с. 70–74; Шишлина и др., 2003, с. 82]. Позднее, видимо, в начале – первой половине III тыс. до н.э., в этот культурогенетический процесс включилось ямное население Нижнего Поволжья, о чем и свидетельствует появление нестандартных погребений в ямной среде, подобных цацынскому и абганеровскому.
Захоронения с расчленением умершего, аналогичные погребению 8 в кургане 9 могильника Аксай I, в материалах ранней бронзы встречаются чаще «сидячих» погребений. В то же время в нижневолжских курганных могильниках их не так много. В основной своей массе они относятся к позднеямному времени, к третьему хронологическому горизонту по Н.Я. Мерперту [Мерперт, 1974, с. 53, 54]. В них особенно отчетливо проявляются смешанные ямно-катакомбные черты. Часто такие погребения занимают основную позицию в курганах и, как правило, выделяются специальным обустройством ритуального пространства, подчеркивающим неординарный статус погребенных. Так, например, публикуемое аксайское погребение «окольцовано» каменным кромлехом, что для ямных курганов Волго-Донского региона является относительной редкостью. В могильнике Орешкин I, расположенном в Волго-Донском междуречье, на правом берегу Медведицы несколько ямно- катакомбных погребений с расчлененными скелетами людей, будучи основными, находились под самыми крупными курганными насыпями могильника, в весьма обширных могильных ямах. В вещевом комплексе этих захоронений также отмечено смешение ямных и катакомбных элементов, проявляющееся, например, в сочетании короткошейных с округлым дном и шнуровой орнаментацией сосудов с бронзовыми предметами, распространенными в раннекатакомбных древностях [Дьяченко, 1992, с. 79–90]. В целом погребения с расчленением или обрядом вторичного захоронения (после акта экскарнации) не характерны для погребений ямной культуры Нижнего Поволжья. Более широко они представлены в раннекатакомбных памятниках сопредельных территорий Нижнего Подонья и Поманычья [Федорова-Давыдова, 1983, с. 57–59; Кожедуб, 2018, с. 38–40].
Выводы
Характер представленных материалов подтверждает сложность и вариативность культурогенетических процессов, происходящих на позднем этапе раннебронзового века в Нижневолжском регионе и сопредельных территориях степного Предкавказья.
Распространение в регионе «нестандартных» погребальных памятников, демонстрирующих очевидное культурное влияние со стороны северокавказских центров куль-турогенеза, символизирует нарастающую дезинтеграцию гомогенной культуры древ-неямной общности и ее многокомпонентный характер, особенно на позднем этапе существования.
Список литературы Нестандартные погребения ранней бронзы Есауловского Аксая. Некоторые вопросы культурогенеза
- Борисов А. В., Демкина Т. С., Демкин В. А., 2006. Палеопочвы и климат Ергеней в эпоху бронзы, IV–II тыс. до н.э. М.: Наука. 210 с.
- Демиденко Ю. В., Мамонтов В. И., 2017. Курганы на правом берегу Карповского водохранилища (по материалам Ильевского курганного могильника) // Древности Волго-Донских степей. Вып. 7. Ростов н/Д: Аркол. С. 9–42.
- Дьяченко А. Н., 1992. Раннекатакомбные памятники правобережья Медведицы // Древности Волго-Донских степей. Вып. 2. Волгоград: Перемена. С. 79–90.
- Дьяченко А. Н., 1996. Отчет об археологических исследованиях в Октябрьском районе Волгоградской области в 1996 году // Архив ВОКМ. № 136, 136 а, б. 66 с.
- Дьяченко А. Н., 1997. Отчет об археологических исследованиях в Октябрьском районе Волгоградской области в 1997 году // Архив ВОКМ. № 209, 209 а,б. 71 с.
- Дьяченко А. Н., Мэйб Э., Скрипкин А. С., Клепиков В. М., 1999. Археологические исследования в Волго-Донском междуречье // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 2. С. 93–126.
- Кожедуб А. Г., 2018. Ритуал вторичных погребений в обряде катакомбных культур Нижнего Дона в эпоху средней бронзы // Связи и взаимоотношения культур бронзового века Циркумпонтийского региона: новые данные и материалы: тез. докл. круглого стола. М.: ИА РАН. С. 38–40.
- Кореневский С. Н., Калмыков А. А., 2003. Новые данные о курганах эпохи энеолита и раннего бронзового века севера степного Предкавказья // Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее: тез. конф. М.: ГИМ. С. 70–74.
- Мамонтов В. И., 2000. Древнее население левобережья Дона (по материалам курганного могильника Первомайский VII). Волгоград: Изд-во ВолГУ. 192 с.
- Мерперт Н. Я., 1974. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М.: Наука. 167 с.
- Мимоход Р. А., 2021. «Загадочные» сидячие захоронения бронзового века в Волго-Уралье // Российская археология. № 3. С. 52–62.
- Перерва Е. В., Моисеев В. И., Харламова И. И., 2021. Нестандартная поза погребенного человека в среднесарматском захоронении из могильника Ковалевка: случайность или обряд? // Stratum plus. № 4. С. 159–180.
- Федорова-Давыдова Э. А., 1983. Раскопки курганной группы Шахаевский II на р. Маныче // Древности Дона. Материалы работ Донской экспедиции. М.: Наука. С. 35–87.
- Хлобыстина М. Д., 1991. «Сидячие» погребения Северной Евразии эпохи неолита и бронзы // Краткие сообщения института археологии. Вып. 203. С. 32–38.
- Шилов В. П., 1985. Курганный могильник у с. Цаца // Древности Калмыкии. Элиста: Калмыцкий НИИ истрии, филологии и экономики при Совете Министров Калмыцкой АССР. С. 94–157.
- Шилов В. П., Багаутдинов Р. С., 1998. Погребения энеолита – ранней бронзы могильника Эвдык // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара: Изд-во СамГПУ. С. 160–178.
- Шишлина Н. И., 1997. Погребальные традиции населения Калмыцких степей в эпоху ранней бронзы // Археологический сборник. Погребальный обряд. Труды ГИМ. Вып. 93. М.: ГИМ. С. 5–14.
- Шишлина Н. И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V–III тыс. до н.э.). Труды ГИМ. Вып. 165. М.: ГИМ. 400 с.
- Шишлина Н. И., Чичагова О. А., Зазовская Э. П., ван дер Плихт Й., 2003. Радиоуглеродная хронология майкопских памятников южных Ергеней // Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее: тез. конф. М.: ГИМ. С. 79–82.