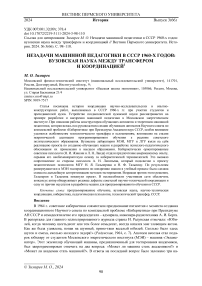Незадачи машинной педагогики в СССР 1960-х годов: вузовская наука между трансфером и координацией
Автор: Зимирев М.О.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Позднесоветские университеты как исследовательские институции
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в СССР 1960-х гг. при участии студентов и преподавателей вузов. Устройство позднесоветской вузовской науки рассматривается на примере разработки и внедрения машинной педагогики в Московском энергетическом институте. При описании работы конструкторов обучающих автоматов и теоретиков машинной педагогики, которая велась под руководством секции обучающих автоматов Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме Академии наук СССР, особое внимание уделяется особенностям технологического трансфера и осложнениям, возникшим на стадии некритической адаптации программированного обучения к реалиям советского политехнического образования. Вузовские лаборатории МЭИ, МГУ и ЛГУ взяли на себя реализацию проекта по созданию обучающих машин и разработке психолого-педагогического обоснования их применения в высшем образовании. Кибернетически ориентированные советские психологи (Н. И. Жинкин и Л. Н. Ланда) отдали предпочтение американскому опыту, скрывая его необихевиористскую основу за кибернетической терминологией. Это вызвало сопротивление со стороны психолога А. Н. Леонтьева, который подключил к проекту педагогических психологов МГУ Н. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызину. По результатам развернувшегося в МЭИ эксперимента по внедрению машин в учебный процесс была сделана ставка на дальнейшую алгоритмизацию методов тестирования. Возражая против этого решения, Гальперин и Талызина покинули проект. В неспособности участников сети обеспечить консенсус автор обнаруживает родовые дефекты советской научно-технической координации и одну из причин неуспехов в разработке машин для программированного обучения в СССР.
Программированное обучение, вузовская наука, научно-техническая координация, кибернетика, педагогическая психология, технологический трансфер, ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147246556
IDR: 147246556 | УДК: 007:001.32(09), | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-98-110
Текст научной статьи Незадачи машинной педагогики в СССР 1960-х годов: вузовская наука между трансфером и координацией
В 1964 г. советские кибернетики совместили празднование пятилетия с момента создания координационного Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР и семидесятилетие его председателя ‒ адмирала, инженера-радиотехника А. И. Берга. В репортаже для главного иллюстрированного журнала страны И. Радунская отмечала: «Юбилей, когда человеку шестьдесят или тем более семьдесят, всегда казался мне зловещим актом. Как же была удивлена, попав на шумный, прямо-таки веселый юбилей. Сколько было здесь шуток и смеха, сколько молодого задора!» ( Радунская , 1964, с. 7). Апогеем веселья стал подарок юбиляру от студентов Московского энергетического института (МЭИ) – машина «Экзаменатор». Этот экземпляр обучающей машины, предназначенный для тестирования академиков, был запрограммирован отвечать на два вопроса: «Может ли машина стать академиком?» и «Может ли академик стать машиной?». В ответы на последний вопрос было заложено три ва-
рианта: «Может, если он стал членом многих комиссий»; «Может, если работает как автомат»; «Может, если будет высказывать чужие мнения» (Там же).
Юмористической сценкой студенты обыграли фиаско в реализации своих наработок. Проделав длинный путь от университетских лабораторий МГУ и МЭИ до Государственного комитета Совета министров СССР по координации научно-исследовательских работ (ГККНИР), машины «Экзаменатор» и «Репетитор», вопреки оптимистичным ожиданиям разработчиков, не попали в Государственный план важнейших научно-исследовательских работ на 1964-1965-е гг. (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 48. Л. 7). Критикуя академиков и чиновников за уподобление машине, студенты обращались к юбиляру, видя в нем единомышленника и сторонника технологической революции в педагогике.
Как совет, руководимый Бергом, поддерживал формирование сети программированного обучения и почему он не смог обеспечить поддержку проекту на стадии внедрения? Как случилось, что в 1960-е гг. программированное обучение стало средоточием технократической координации? Почему технологическое оснащение советской педагогики было делегировано вузовским лабораториям и что сдерживало их работу? На эти вопросы я отвечу, обратившись к документации координации вузовских исследований по обучающим машинам, проводимых на излете оттепели.
От кооперации – к координации
С середины 1950-х гг. коммунизм и способы его достижения в СССР определялись через научно-технический прогресс, а научная экспертиза проникла в государственное управление [ Бикбов , 2014, с. 242]. Децентрализация командно-административной системы управления наукой, развернувшаяся в годы семилетки, сопровождалась формированием гибридных институциональных форм, обеспечивающих согласованность действий научных организаций и отдельных ученых, число которых резко возросло на волне НТР, а география расширилась [ Лахтин , 1990, с. 29]. На смену ведомственной вертикали приходили научно-технические советы, научные общества, головные НИИ и другие формы сетевой координации ‒ региональной и тематической [ Орлова, 2023].
В этих обстоятельствах роль координации возрастала. От нее ждали не только справедливого распределения ресурсов, достигаемого через социалистическую бюрократизацию [ Кор-наи , 2000, с. 123], но и новых управленческих архитектур, обеспечивающих приоритет «горизонтальных связей над вертикальными, содружества ‒ над командованием, авторитета ‒ над организационной иерархией, уважения инициативы участников - над гегемонией» [ Орлова , 2023, с. 125]. Несколько лет центральный орган, отвечающий за научно-техническую политику в СССР, назывался Государственным комитетом по координации научно-исследовательских работ. Дискурсивно оформляя это новшество весной 1961 г., президент АН СССР М. В. Келдыш очертил круг задач, которые следовало решать с помощью координации. Речь шла о борьбе с мелкотемьем и дублированием исследований, преодолении разобщенности университетской, отраслевой и академической наук, обеспечении равных возможностей ученым из разных регионов и учреждений, укреплении международных связей (Доклад президента…, 1961, с. 1– 4). Несмотря на то что с 1962 г., от которого в данной статье ведется отсчет начала работ по обучающим машинам, в управлении советской наукой и техникой преобладал возврат к централизации [ Орлова , 2023, с. 128], координационные советы в целом и совет академика Берга в частности продолжали делать ставку на неформализованную координацию [ Зимирев , 2023].
Если в довоенном устройстве советской науки ключевая роль принадлежала ведомственным и академическим институтам, то на рубеже 1950-1960-х гг. усилилась роль вузов-флагманов, функционирующих в качестве головных: они осуществляли методическое руководство образовательными программами, занимались переподготовкой преподавателей и разрабатывали критерии оценки качества образования [ Кузьминов, Семенов, Фрумин, 2013]. В 1957 г. на ученом совете Московского высшего технического училища (МВТУ) им. Баумана заведующий отделом науки, вузов и школ ЦК КПСС В. А. Кириллин, говоря о переходе от межуниверситетской кооперации к координации, выделил из общей массы головные институты или вузы, которые в условиях совнархозовской реформы будут задавать остальным направление исследовательской работы по профильным темам НИР, разграничивать сферы ответственности участников сети по выполнению плана и выступать информационно-методическими центрами (Соколовская, 1957, с. 2). К началу 1960-х гг. круг головных учебных заведений, за которыми, как правило, стояли сильные профильные министерства, определился. МЭИ был одним из них. Ожидалось, как это сформулировал в 1961 г. проректор МЭИ по науке, что эти вузы и их студенты станут «передовиками научно-технического прогресса», проявляя фантазию и самостоятельность (АРАН. Ф. 1755. Оп. 1. Д. 66). Статус головной организации предполагал развитие научной базы вуза и расширение исследовательской работы.
Из этой перспективы автор рассматривает историю разработки обучающих автоматов на базе МЭИ в 1960-е гг., опираясь на планы и отчеты Научного совета по кибернетике, материалы Межведомственного научного совета по программированному обучению и Академии педагогических наук РСФСР. Координация вузовских лабораторий описывается с использованием архивов научных семинаров и источников личного происхождения.
Историзируя алгоритм: программируемое обучение
До переноса на советскую почву идея программированного обучения, сформулированная С. Л. Пресси, насчитывала сорокалетнюю историю. В середине 1920-х гг. американский психолог сконструировал первую обучающую машину, состоящую из барабана с прикрепленным к нему листом с вопросами, записывающего устройства-счетчика и четырех кнопок ввода [ Pressey , 1926]. Небольшая механическая конструкция, напоминающая пишущую машинку, позволяла записывать на листах тесты с четырьмя вариантами ответа и пошагово выводить их. На барабан был намотан лист с заданиями. Четыре ребра, находящихся на скрытой части, обеспечивали вариативность и необходимую последовательность ответов. До тех пор, пока ученик не выбирал правильный ответ, барабан оставался неподвижным, побуждая пересматривать решение задачи. Стоило ввести нужное решение, как барабан прокручивался, выводя следующее задание. Пресси полагал, что его машина обеспечивает индустриальную революцию в педагогике. Однако продажи агрегатов оставляли желать лучшего. Покупатели жаловались на дороговизну и техническое несовершенство аппарата, а потому уже в начале 1930-х гг. компания-производитель отказалась от сотрудничества с изобретателем [ Watters , 2023, p. 55–59]. Тем не менее именно Пресси определил контуры программированного обучения, сделав ставку на порционную подачу материала по заранее составленной программе и обучение в процессе тестирования.
Как указывает историк Виктория Борецкая, исследовавшая проникновение идей программированного обучения сквозь железный занавес, интерес к обучающим машинам вырос в эпоху холодной войны. Успех СССР в освоении космоса, трактуемый как способность в короткие сроки подготовить значительное число высококвалифицированных специалистов, вызвал в США широкую дискуссию об уровне национального образования и о поиске путей его усовершенствования [ Boretska , 2019, p. 31]. В конце 1950-х гг. амбассадором программированного обучения стал отец необихевиоризма Б. Ф. Скиннер. Его представления о механизмах научения и поведения человека, не ограничивающихся прямой стимуляцией и задействующих дополнительные факторы (в т.ч. опыта), стали основанием для расширенного применения обучающих машин. Скиннер предложил использовать их для индивидуализации обучения, освобождения учителей от механической работы по проверке письменных заданий, сокращения расходов и повышения эффективности предоставляемых услуг [ Skinner , 1960].
Электромеханическая конструкция, разработанная им в 1957 г. и апробированная на студентах Гарварда, изучающих естественные науки, была эргономичнее машины Пресси. Вместо барабана использовалось устройство, прокручивающее бумажные диски. В центре дисков записывались задания и правильные ответы на них. По краям оставалось место для ответов, даваемых письменно. Записав решение и дернув за рычаг, пользователь видел правильный ответ. Теперь ученик мог осваивать материал в удобном для себя темпе, использовать машину для самопроверки и тут же получать обратную связь [Boretska, 2019, p. 31–32]. И хотя подход был передовым для своего времени, внедрение скиннеровских машин закончилось неудачей. Пре- пятствиями стали патентная борьба и нежелание передовых университетов становиться площадкой для обкатки неопробованных технологий [Watters, 2023].
По всей видимости, идея применения программированного обучения в высшей школе проникает через железный занавес вместе со Скиннером, посетившим СССР в 1961 г. по приглашению видного советского нейропсихолога А. Р. Лурии [ Boretska , 2019]. Ее скептическому восприятию в профессиональной среде способствовали коммерческие неудачи скиннеровских машин, марксистская критика необихевиоризма и идиосинкразическое отношение к тестированию в советской педагогике, утвердившееся со времен разгрома педологии. Только пять лет спустя редакция «Советской педагогики» призвала педагогов и психологов к изучению передового зарубежного опыта машинного обучения (Актуальные проблемы…, 1966, с. 22).
Куда больший интерес к обучающим машинам проявили кибернетики, увидевшие в программированном обучении возможность для внедрения вычислительных технологий в педагогику. На рубеже 1950–1960-х гг. о программированном обучении в рубрике «Радиоэлектроника за рубежом» писали журналы «Военный зарубежник» и «Радио», связанные многолетней дружбой с академиком Бергом, который был не только организатором советской кибернетики, но и одним из ведущих военных радиотехников страны. Военные и политехнические вузы УССР (Львовский политехнический институт и Киевское высшее инженерное радиотехническое училище) не без участия Берга экспериментировали с внедрением обучающих машин [ Boretska , 2019, p. 38].
Масштаб имеет значение
Идеи кибернетики – науки об управлении, обратной связи и (само)организации живых и неживых систем, – проникнув в СССР в начале 1950-х гг., были восприняты советскими пионерами вычислительной техники из военных НИИ и КБ, но заклеймены сталинской научной бюрократией как квинтэссенция буржуазности и лженауки. К концу 1950-х гг. из тайного знания горстки посвященных кибернетика превратилась в науку переднего края, обещавшую с помощью алгоритмов повысить эффективность в управлении народным хозяйством. В 1959 г. для ликвидации отставания от западных разработок математики А. А. Ляпунов, С. Л. Соболев и А. Н. Колмогоров предложили президенту АН СССР А. Н. Несмеянову создать орган научнотехнической координации кибернетических работ [Аксель Иванович Берг, 2007]. Научный совет по кибернетике был создан в 1961 г. при Президиуме АН СССР.
В годы реформы, когда Академия переосмысливалась в качестве центра координации фундаментальной науки [ Иванов , 2000], научные советы, создаваемые при ней, действовали в качестве координаторов перспективных исследований. Они формировали профильные сети и помогали научным коллективам, конструкторским бюро и опытным предприятиям экспертизой, консультациями, методическим обеспечением, финансированием, оборудованием и площадями [ Зимирев , 2023]. На их заседаниях потенциальные партнеры, разделенные отраслевыми и географическими границами, а то и просто незнакомые, встречались лицом к лицу, в свободной манере обсуждая программы друг друга, создавая альянсы и договариваясь о согласованных стратегиях продвижения знаний и технологий.
Академик Берг был бессменным председателем Научного совета по кибернетике. Коллегиальное управление осуществлял президиум, в состав которого входили руководители ведущих научно-исследовательских институтов и университетских кафедр, преимущественно физико-математического профиля, объединенные кибернетической ориентацией (подробнее см. [ Зимирев , 2023]). От президиума ожидалось согласование годовых планов, кадровой политики и организации международных научных контактов, например, с ЮНЕСКО [Там же]. К середине 1960-х гг. совет состоял из трех секций: физико-технической (и математической), химикотехнологической (и биологической) и секции общественных наук. В составе секций действовали профильные подсекции. Они составляли ежегодные и пятилетние планы НИР и отчитывались об их выполнении перед президиумом совета [Там же]. Так, к середине 1960-х гг. сеть подсекции «Психология и кибернетика» включала лаборатории МГУ, ЛГУ, ЛЭТИ, МЭИ и МАИ [Аксель Иванович Берг, 2007, с. 180].
Благодаря берговскому стилю руководства, основанному на приоритете сетевых связей над ведомственными, совет и академик лично выступали вдохновителями, агрегаторами, тестировщиками и проводниками усиления кибернетики (подробнее см. [Аксель Иванович Берг, 2007]). Скажем, горячо поддерживая идею академика Канторовича по созыву сессии АН СССР по вопросам математизации экономики, Берг фактически выставил Академии ультиматум в ходе выступления на президиуме: «Либо мы проводим такую конференцию, такое совещание без Академии наук, либо с Академией наук. Но мы ее, безусловно, проведем. Однако нам хотелось, чтобы борьба за подъем экономической науки была возглавлена Академией наук СССР. Это наша задача, наша цель. Поэтому мы написали это письмо не в ЦК, а в Академию наук» [Аксель Иванович Берг, 2007, с. 223]. Институциональная опора на АН СССР должна была позволить Бергу перехватить часть полномочий ГККНИР, включая координацию работ с научно-технической информацией во всесоюзном масштабе. Однако в 1962 г. президиум совета эти планы не поддержал, ограничившись координацией фундаментальных исследований (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 18).
Расширению функций совета немало способствовала расширенная трактовка самой кибернетики, в которой Берг видел механизм оптимизации управления народным хозяйством. Его живой интерес к обучающим автоматам, позволяющим перевести подготовку специалистов в технократическую плоскость, следует рассматривать в этом ключе. Берг лично продвигал обучающие машины в качестве демократичной альтернативы «школам гениев» – системе специализированных математических школ [ Майофис , Кукулин , 2015], ожидая от них компенсации нехватки преподавателей, снижения трудоемкости обучения при сохранении широкого диапазона его индивидуализации (АРАН. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–6). На пике работ председатель совета пропагандировал это новшество на страницах советской печати и в радиоэфирах, обещая внедрить их и «в самом далеком ауле» ( Радунская , 1964, с. 9), и в таежном поселке, чтобы оснастить школы самых далеких и глухих мест не хуже московских (АРАН. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 31. Л. 6).
Амбициозные планы требовали быстрого цикла разработки, тестирования и внедрения обучающих машин. Разумеется, Берг не собирался подчинять совету всех исследователей и разработчиков обучающих машин в СССР. Была выбрана иная стратегия – добиться максимального сокращения цикла НИОКР, переместив работы в высшую политехническую школу.
Перекресток координации: вузовская наука
В марте 1962 г. делегация советских психологов во главе с Н. И. Жинкиным, старшим научным сотрудником Института психологии АПН РСФСР и председателем секции психологии и кибернетики в берговском совете, участвовала в конференции по вопросам применения технических средств в обучении, проводившейся ЮНЕСКО в Париже (РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 355. Л. 6). Из скупого отчета следовало, что проводником обучающих автоматов на конференции была делегация США, представившая теоретическое обеспечение технологии и обзор опыта внедрения машин в высшее образование. Стало очевидно, что разработка обучающих машин вышла за рамки скиннеровских экспериментов: Министерство обороны США ожидало от машинной педагогики, в сочетании с инженерной психологией, удешевления отбора и подготовки военных и космических летчиков (АРАН. Оп. 1. Ф. 1807. Д. 59). Финансирование исследований, по оценкам Жинкина, составило 18 млн долларов. Это стало весомым аргументом для ускорения советских исследований. Уже спустя два месяца в рамках секции Жинкина была образована подсекция обучающих автоматов.
Предполагалось, что советские разработчики обучающих машин дистанцируются и от заокеанского бихевиоризма, и от «повествовательного подхода к исследованию психических явлений», присущего советской педагогической психологии (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 24. Л. 48, 58). Воплощая эту программу в жизнь, ленинградский психолог Л. Н. Ланда, избранный председателем подсекции, безотлагательно добился открытия головной лаборатории по программированному обучению при НИИ психологии АПН РСФСР.
Тремя годами ранее А. В. Нетушил, декан факультета автоматики и вычислительной техники МЭИ, пригласил академика Берга прочесть лекцию о кибернетике, положив начало со- трудничеству энергетиков с кибернетиками. Кафедра автоматики и телемеханики вместе со студенческим конструкторским бюро, открывшимся в 1959 г., подключились к работе Научного совета по кибернетике уже на стадии его формирования [Аксель Иванович Берг, 2007, с. 77, 174]. Испытывая дефицит в площадях и оборудовании, они вели исследования на базе Института проблем передачи информации АН СССР. Берг предложил Нетушилу, не дожидаясь начала работы совета, использовать эту площадку для разработки пилотных версий обучающих машин.
Если в МЭИ была сосредоточена конструкторская работа, то роль теоретического центра, обосновывающего применение обучающих машин в педагогике и разрабатывающего методическое обеспечение этих работ, отводилась сразу двум научным организациям – Лаборатории программированного обучения Ланды и Лаборатории психологических основ программированного обучения, действующей с 1964 г. в МГУ под руководством математика-энтузиаста обучающих машин Б. В. Гнеденко, по совместительству – заместителя председателя совета, и психолога А. Н. Леонтьева, главы подсекции инженерной психологии.
Лаборатория психологических основ программированного обучения МГУ была открыта после обращения Берга в 1963 г. к министру высшего и среднего специального образования СССР В. П. Елютину с просьбой выделить на нее 300 тысяч рублей (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–3, 25–30). В ее штате числились два профессора, восемь доцентов и старших научных сотрудников, шестнадцать младших научных сотрудников и лаборантов. Де-факто проект вели П. Я. Гальперин и Н. Ф. Талызина – специалисты в области детской психологии и последователи Л. С. Выготского, считавшего интериоризацию (преобразование речевой деятельности и общения в психические структуры) решающим фактором развития ребенка ( Гальперин , 1959, с. 441–455).
Включение в работы по психологическому обоснованию машинного обучения сразу двух лабораторий могло быть воспринято как нарушение протокола координации, приводящее к дублированию исследований. Однако, как показало заседание секции психологии еще в октябре 1962 г., ее члены имели смутное представление о психолого-педагогической стороне дела. В пятилетнем плане работ подсекции, составленном Ландой, кибернетика решительно потеснила психологию с педагогикой. Ставка была сделана на «логико-математическую теорию управления педагогическим процессом, опирающуюся на объективные психологические и психофизиологические законы усвоения человеком знаний и умений» (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 24. Л. 48). Для преодоления возникшего перекоса Леонтьев предложил кандидатуру Гальперина.
Таким образом, в начале 1960-х гг. сразу несколько вузовских лабораторий Москвы, связанных с центром координации кибернетических разработок, участвовали в методическом оснащении обучающих машин. Несмотря на различия в научных школах, работа секции в 1963 г. проходила штатно: обсуждались переводы специальной литературы, нехватка кадров и аппаратуры, создание новых лабораторий (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 59). После того как секция была укомплектована, Берг обратился к министру образования Елютину с просьбой включить тему, реализуемую совместными усилиями университетских преподавателей и студентов, в перечень важнейших НИР на 1964–1965-е гг. ( Берг , 1966, с. 25).
Пилот: обучающие автоматы из МЭИ
Машинная «революция в педагогике» ( Радунская , 1964, с. 9) развивалась настолько стремительно, что инженерное звено сети приступило к работе, опередив психологов на два года. Внедрение программированного обучения в учебный процесс шло по линии проблемной лаборатории факультета автоматики и вычислительной техники (АВТФ) МЭИ, которой руководил профессор Ф. Е. Темников. Сборку первых опытных образцов вело студенческое конструкторское бюро (СКБ) МЭИ, действующее как самостоятельное университетское подразделение под патронажем сотрудников кафедры (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 2416. Л. 22). Таким образом, МЭИ был одним из ключевых узлов в сети программируемого обучения.
Официальный отсчет началу работ в МЭИ на базе АВТФ положило решение Министерства высшего и среднего специального образования от 8 июня 1961 г. Документ предусматривал форсирование работ по обучающим автоматам, расширение площадей лаборатории «Обучающие системы» на 400 м2, создание экспериментальной аудитории «Кактус», подготовку кадров, сотрудничество с Волжским, Смоленским и Чебоксарским филиалами МЭИ, проведение спецсеминаров и составление учебно-методических пособий по программированному обучению (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 1903. Л. 12, 25). Работы разворачивались при заинтересованности МЭИ в развитии темы. В 1961–1962 учебном году на АВТФ разрабатывали учебные курсы по кибернетике и логическим устройствам в автоматике, готовили аспирантов по технической кибернетике. Они тоже участвовали в решении проблемы программированного обучения.
Первый из отчетов по обучающим системам датирован 1963 г. и подписан руководителем лаборатории «Обучающие системы» Ю. Н. Кушелевым. Через два года после начала работ конструкторы все еще находились на стадии подготовки к изготовлению опытной серии машин «Экзаменатор» и отдельных экземпляров «Репетитора» (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 2064. Л. 16). Опытные экземпляры «Экзаменатора» были разработаны в МЭИ в 1962 г. Их серийное производство началось в 1964 г. Корреспондента «Вечерней Москвы» машина встретила черным матовым экраном и диском телефонного типа, используемым в качестве устройства ввода ( Зуфаров , 1967, с. 3). Студент, проверяющий свои знания или сдающий лабораторную работу, включал автомат, ждал появления на экране вопроса с тремя-четырьмя вариантами ответов и выбирал тот, который считал правильным. Автомат записывал правильные ответы, суммируя их по формуле, заложенной в программу, и выставлял оценку ( Борзина , 1962, с. 2).
Машина «Репетитор» стала более долгосрочным и технологически сложным решением. В 1964 г. она разрабатывалась при участии Леонтьева для изучения английского языка, но была переработана для подготовки к экзаменам – ввод и вывод учебных материалов на бумажных бланках. Более поздние модели электронных репетиторов, конструируемые в МЭИ с 1966 г., выдавали магнитную пленку с кратким описанием темы, которую можно было прослушать на магнитофоне ( Кругов , 1966, с. 2). К 1968 г. в МЭИ оборудовали класс «Репетитор», оснащенный двадцатью автоматизированными машинами, использующими киноленты объемом до 2500 кадров, что позволяло загружать все учебные материалы и тесты, а на основе выходных данных проводить исследования эффективности применяемых методик ( Дятлов , Кушелев , 1969).
Технологии и перипетии обратной связи
Разработчики машин из МЭИ должны были моделировать процесс обучения в сотрудничестве с психологами из МГУ и АПН РСФСР (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 2063. Л. 54). В 1965 г. инженеры-конструкторы опубликовали статью в соавторстве с руководителем подсекции обучающих автоматов, действующей при Научном совете по кибернетике, посвященную расширению функционала «Репетитора» и его использованию в изучении процесса обучения.
Для этих целей машину, дополнительно оснащенную магнитофоном, диапроектором и устройством ввода информации, запрограммировали на запоминание времени изучения каждого вопроса; фиксацию вопросов, на которые были даны неверные ответы; учет количества обращений за помощью по конкретным заданиям и количества повторно прослушанных магнитофонных записей; определение образовательного маршрута ученика ( Кушелев и др., 1965, с. 115). Данные, занесенные на перфокарты, обрабатывались машинным способом. Полученную статистику планировали использовать для корректировки программированных уроков (Там же, с. 116). Таким образом, при участии психологов лаборатория обучающих машин МЭИ интегрировала в свою разработку технологию с обратной связью.
Для проведения уроков с применением обучающих машин в проблемной лаборатории АВТФ в 1964 г. создали специализированный кабинет «Кактус» на двадцать машин. Принимая студентов других факультетов и заочников, «Кактус» был постоянно перегружен. К нехватке площадей, на которую сетовали с 1961 г., в 1966 г. добавилась проблема со снабжением и материальным обеспечением, обострившаяся на фоне запросов на оснащение обучающими машинами других кабинетов МЭИ и его филиалов. Согласно одному из отчетов, на открытие «Кактуса-2» у доцента Кушелева и студенческих сотрудников СКБ МЭИ ушло 417 часов, а одному только Волжскому филиалу передали пятнадцать «Экзаменаторов» (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 2416. Л. 18, 60).
Однако не дефицит времени и ресурсов стал главным препятствием на пути внедрения программируемого обучения в МЭИ. На факультете электронной техники, где широко внедрялись передовые методы использования машин для проверки знаний, зафиксировали стабильное ухудшение результатов зачетных сессий (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 2580. Л. 5–7). Ответственность за ухудшение учебного процесса возложили на преподавателей, не умеющих работать со студентами, и «излишний либерализм в организации учебного процесса» (Там же. Л. 6). Для ужесточения контроля за учебным процессом ввели должность кураторов.
Вместе с преподавателями под удар попали электронные репетиторы, поскольку эксперимент с их внедрением не решил проблем нехватки преподавательского состава и повышения качества преподавания. Правда, согласно отчетной сводной таблице, всего одна лекция и семь лабораторных работ были переведены в формат программированных уроков, для которых вместе с психологами из МГУ и АПН разрабатывались учебные материалы, тогда как для механической проверки лабораторных работ машина была использована 751 раз (Там же. Л. 29). Это означает, что характер эксплуатации машины сотрудниками МЭИ в лучшем случае позволял облегчить работу преподавателя по проверке лабораторных, но не изменял сам процесс обучения. Кроме того, машинного парка «Кактусов» попросту не хватало для нужд большого вуза, а их перемещение в аудитории приводило к поломкам техники. Все это не помешало скептикам и консерваторам охарактеризовать технологию программируемого обучения в целом как «малоэффективную трату времени» (Там же. Л. 21). Неопытным преподавателям и несовершенным новациям был противопоставлен подполковник запаса Полушкин, сочетавший «высокую требовательность и личностный подход к студентам». Студенты под его руководством показали наилучшие результаты при проверке знаний (ЦГА. Ф. 1866. Оп. 1. Д. 2758. Л. 6).
С 1967 г. программированное обучение было исключено из планов факультета электронной техники по модернизации образования, а СКБ, утратив автономию, перешло в подчинение кафедры АВТФ (Там же). Годом раньше в МЭИ была создана межкафедральная учебная лаборатория новых методов и средств обучения, не связанная с кибернетиками и берговским советом [МЭИ. История. Люди. Годы, 2010, с. 199]. И даже в планах кафедры АВТФ обучающие автоматы были оттеснены на обочину более актуальными темами – информатикой и автоматизацией эксперимента в химической промышленности, а выполнение заказа совета исчезло из отчетов.
История неудачи эксперимента с обучающими машинами в систему подготовки студентов будет односторонней, без описания ситуации, сложившейся в эти годы на стороне психологов, занятых моделированием программируемого обучения.
К барьеру координации: психологи
Психологи, от которых кибернетики ожидали помощи в использовании машинного обучения на практике и экспертного сопровождения при внедрении новой технологии, предлагали конкурирующие способы решения проблемы.
Стремясь воспитать у кибернетиков психолого-педагогическое мышление, Гальперин упирал в эксперименте на программирование деятельности учащегося по усвоению предмета. Для этого параллельно с «Экзаменаторами» и «Репетиторами», оптимизирующими работу преподавателя, следовало разрабатывать корректирующие машины, призванные помочь пользователю не зубрить материал, а самостоятельно вырабатывать программу решения задачи, выбирая из арсенала аудиальных, графических, визуальных инструментов наиболее подходящие. В этом случае машина должна была программироваться по аналогии с работой психики, а не человек должен был подстраиваться под алгоритм: «Сказанное исходит из общего положения, что психика является аппаратом управления действием и в своем конкретном содержании сама формируется при его выполнении» ( Гальперин , 1967, с. 19). Вся управленческая власть в версии последователей Выготского и Леонтьева принадлежала не кибернетическому устройству, а деятельности, в ходе которой устройство активируется.
Позиция Ланды была ближе к запросам советских кибернетиков и к американскому протоколу программированного обучения. В частности, он считал необходимым сохранять единую логически выстроенную последовательность в изложении материала и подкреплять действия учащихся информированием о результате в стилистике (нео)бихевиористов. Проецируя тезаурус кибернетики и вычислительной техники («программа», «запрограммировать», «входные и выходные данные») в плоскость педагогической психологии, получающей, таким образом, когнитивистский разворот (РАО. Ф. 82. Оп. 4. Д. 111. Л. 4–10), он описывал педагогическую деятельность учителя в терминах решения управленческих задач, в психических процессах видел плоды управления, а в психике ребенка – самоуправляемую систему, настраиваемую извне (Там же. Л. 2).
У кибернетической редукции психолого-педагогического процесса была своя прагматика. Ланда не стремился совсем отказаться от учителя, являвшегося «самой совершенной и гибкой управляющей системой», способной «быстро (хотя и не всегда успешно) приспосабливаться к реальному ходу усвоения учащимся знаний, умений и навыков», в пользу машины ( Кушелев и др., 1965, с. 112). Его интересовали моделирование отдельных функций педагога и перспектива их автоматизации при составлении программированных уроков. Исследователь исходил из того, что эффективность воспроизводства автоматом отдельных функций учителя можно проверить экспериментально и представить в виде алгоритма. В этом смысле подход Ланды отвечал запросу Берга на технологию, воспроизводимую в масштабе большой страны.
Методику линейного программированного обучения для студентов МЭИ Ланда разработал не позднее 1966 г. За лекцией, в ходе которой преподаватель размечал структуру темы и кратко характеризовал ее разделы ( Дятлов , Кушелев , 1969), следовали практические работы в классах «Кактус» или «Репетитор». В машины загружались программы с необходимыми учебными и тестовыми материалами, а студенты изучали их в индивидуальном темпе. Проверка знаний осуществлялась машинным способом с помощью тестов, включающих открытые и закрытые варианты ответов. Восьмичасовой образовательный цикл завершался семинаром, где студенты давали обратную связь. Уже в ходе тестирования методики стало понятно, что продвинутые студенты увлечены поиском оригинальных способов обхода линейного алгоритма, но программированное обучение было беззащитно перед этим тактическим маневром (Там же, с. 51).
Гальперин и Талызина рассматривали эти тактики как результат умственных действий ученика, вырабатывающего собственный алгоритм обучения и ориентировочную карту изучаемой темы. Они исходили из того, что разработка нелинейных программ с отсроченной выдачей ответов позволит студентам и преподавателям использовать машины параллельно с изучением темы для выработки и корректировки своих познавательных навыков ( Гальперин , 1967). Разделяя три формы умственных действий (ориентировочного, исполнительного, контрольного), Талызина намеревалась выявлять уровень их развития на основе выработанного студентами алгоритма ( Талызина , 1968, с. 22–24).
Конец интервенциям московских психологов в машинное обучение будущих энергетиков положила поездка Нетушила в 1965 г. в США. Познакомившись с ведущими университетскими разработчиками обучающих машин, включая Скиннера, руководитель работ по этой теме в МЭИ пришел к выводу, что психологи переоценили педагогические возможности автоматов, а мировая практика обучающего применения ЭВМ пошла по пути снижения преподавательской нагрузки, совершенствования компьютеров и оптимизации учебного процесса ( Нетушил , 1966, с. 24–26). Именно в этих параметрах начали измерять эффективность применения обучающих машин в МЭИ, отказавшись от разработки корректирующих машин ( Дятлов , Кушелев , 1969, с. 1).
Столкновение гуманистической теории умственных действий москвичей с технократической трактовкой программируемого обучения ленинградцами произошло 19 февраля 1965 г. на заседании подсекции по обучающим машинам. Докладчик, представлявший сторону инженерных психологов из Ленинградского университета, очертил масштаб взаимного исключения, существующего между участниками дискуссии: «По вопросу о том, что главное в программированном обучении, в чем его сущность, пора наконец либо прийти к единому мнению, либо окончательно размежеваться. Дело дошло до того, что я в своих лекциях по программированному обучению обхожу молчанием то, что кафедра педагогики МГУ считает программированным обучением, а МГУ, в свою очередь, информирует публику лишь о том направлении, в котором работают П. Я. Гальперин и Н. Ф. Талызина. Кстати, мне так не удалось уловить сколь- ко-нибудь существенные различия в исследовательских методиках у работников МГУ» (АРАН. Ф. 1807. Оп. 1. Д. 82. Л. 1-2).
Реинтерпретируя эпистемические различия московских коллег в терминах дублирования научных разработок по теме, докладчик переводил проблему сотрудничества в плоскость нарушения протокола координации. Приближая разрыв и тем самым разрушая координацию, председатель подсекции прямо заявил, что при ЛГУ открывается лаборатория программированного обучения, способная заменить москвичей в случае их отказа от сотрудничества (Там же. Л. 8). И хотя итоги заседания не были внесены в протокол, его результатом стал раскол. Группа Гальперина и Талызиной, проработав в совете чуть больше года, прекратила сотрудничество с кибернетиками. Симпатии руководства совета и его председателя в этом противостоянии были на стороне ленинградцев, поставивших технологию выше педагогики.
На 1-й Всесоюзной конференции по программированному обучению, состоявшейся в МЭИ в 1966 г., Берг раскритиковал психологов из МГУ за выпадение из коллектива и «резкое противопоставление» своих исследований разработкам, которые координировал совет ( Берг, 1966, с. 19). С 1967 г. их имена не упоминали в ряду энтузиастов советской кибернетики. Да и сами москвичи дистанцировались от области, становящейся все более чужой, определяя ее в своих учебных пособиях в качестве одной из генеалогических линий метода программированного обучения ( Талызина , 1968, с. 5). В неспособности сторон прийти к консенсусу и отсутствии эффективного посредничества проступал кризис координации.
Заключение
Идеи программированного обучения получили распространение в СССР в эпоху экспериментов Н. С. Хрущева по перестройке системы управления народным хозяйством, когда в ход шли недирективные формы управления, а координация превращалась в один из ключевых инструментов научно-технической политики.
В этих обстоятельствах председатель Научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР и административный тяжеловес, академик Берг сделал ставку на обучающие машины, противопоставив технологию, импортируемую из США, недемократичным советским инициативам, будь то выборочная политехнизация или создание сети элитарных физикоматематических школ. С помощью репетиторов-автоматов он по-социалистически связал науку, технику и педагогику.
Ключевая роль в разработке обучающих машин и психолого-педагогическом обосновании их применения отводилась вузовской науке. Работы координировал совет, при содействии которого удалось пробить открытие и оснащение профильных лабораторий при МГУ, МЭИ, ЛГУ и АПН РСФСР; связать энтузиастов программированного обучения во всесоюзную сеть, предоставив им площадку для свободного обмена мнений; убедить Минвуз СССР и администрацию МЭИ провести пилотный эксперимент.
Траектория будущих осложнений наметилась уже на этапе трансфера технологии, когда координаторы советского программированного обучения отдали приоритет американскому опыту, затушевав его необихевиористскую основу кибернетической терминологией. Реагируя на технократическое смещение, один из лидеров советской психологии А. Н. Леонтьев подключил к разработкам педагогических психологов из МГУ - Н. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызину. Различия в подходах к программированному обучению московских экспертов, представляющих школу Выготского, и ленинградцев, ориентированных на инженерную психологию, обернулись противостоянием и вытеснением исследователей, ставящих во главу угла человека и его деятельность, из проекта. Разработчики и координаторы поддержали технологическое решение проблемы.
Пилотный эксперимент с внедрением обучающих автоматов в МЭИ завершился к 1967 г., когда руководство обеспокоилось отсутствием педагогического эффекта от внедрения машин. Несмотря на то, что в условиях дефицита времени и ресурсов сеть Берга продемонстрировала возможность быстрого трансфера технологии, доработки ее до уровня передовых стран и запуска в серию, результат не соответствовал планке технической революции в педагогике.
Выбирая между политически актуальными дискурсами 1960-х гг. – автоматизацией, ведущей к коммунизму, и социализмом с человеческим лицом, сеть Берга не реализовала обещаний. Студенческая шутка о превращении академиков в машины, адресованная бюрократии ГККНИР, вернулась самим кибернетикам. Вместо по-социалистически переплетенных педагогики и техники обучающие машины возвратили учащегося к механическому тестированию, методы контроля за учебным процессом алгоритмизировались, а квантифицируемые показатели были взяты за основу при оценке эффективности применения обучающих машин в высшей школе.
Список литературы Незадачи машинной педагогики в СССР 1960-х годов: вузовская наука между трансфером и координацией
- Архив Российской Академии наук г. Москвы (АРАН). Ф. 1755. Оп. 1. Д. 66; Ф. 1807. Оп. 1. Д. 18, 24, 28, 48, 59, 82; Ф. 1810. Оп. 1. Д. 31.
- Архив Российской Академии образования (РАО). Ф. 82. Оп. 1. Д. 355; Оп. 4. Д. 111.
- Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА). Ф. 1866. Оп. 1. Д. 1903, 2063, 2064, 2416, 2580, 2758.
- Берг А.И. Состояние и перспективы развития программированного обучения. М.: Знание, 1966. 27 с.
- Борзина З. Вопросы задает. машина // Вечерняя Москва. 1962. № 165. 16 июля. С. 2.
- Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. М.: Изд-во Президиума АПН СССР, 1959. Т. 1. С. 441-455.
- Гальперин П.Я. К теории программированного обучения (материалы лекции, прочитанной на факультете программированного обучения при Политехническом музее в 1966 г.). М.: Знание, 1967. 28 с.
- Зуфаров В. Советы электронного робота // Вечерняя Москва. 1967. № 15. 18 января. С. 3.
- Кругов В. Кибернетика и педагогика // Вечерняя Москва. 1966. № 154. 4 июля. С. 2.
- Нетушил А.В. Состояние программированного обучения и применение обучающих машин в США (по материалам поездки в 1965 г. в США группы советских специалистов). М.: Знание, 1966. 29 с.
- Радунская И. «Правофланговый кибернетики» // Огонек. 1964. № 10. 10 марта. С. 7-9.
- Соколовская Р. Этого требует жизнь // Вечерняя Москва. 1957. № 88. 13 апреля. С. 2.
- Талызина Н.Ф. Теоретические основы программированного обучения. М.: Знание, 1968. 134 с.
- Дятлов В.С, Кушелев Ю.Н. Класс «Репетитор МЭИ» (состав, организация и приемы программирования). М.: Изд-во ВИНИТИ, 1969. 69 с.
- Кушелев Ю.Н., Ланда Л.Н., Усков В.Г., Шеншев Л.В. Обучающая машина с исследовательскими функциями // Применение технических средств и программированного обучения в средней специальной и высшей школе.: сб. ст. М.: Советское радио, 1965. Т. 3. 399 с.
- Актуальные проблемы программированного обучения (редакционная статья) // Советская педагогика. 1966. № 1. С. 13-23.
- Доклад президента Академии наук СССР М.В. Келдыша о перестройке работы научных учреждений в связи с постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР // Правда. 1961. № 164. 13 июня. С.1-4.
- Бикбов А.Т. Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: ВШЭ, 2014. 432 с.
- Зимирев М.О. Научный совет по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР в 1960-1970-е годы: наука и практики координации // Социология науки и технологий. 2023. № 1. С. 87-105.
- Иванов К.В. Наука после Сталина: реформа Академии 1954-1961 гг. // Науковедение. 2000. № 1. С.184-211.
- Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: Вопросы экономики, 2000. 672 с.
- ЛахтинГ.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. 217 с. Орлова Г.А. Оттепель научно-технической координации в СССР // Социология науки и технологий. 2023. № 1. С. 106-134.
- Майофис М., Кукулин И. Математические школы в СССР: генезис институции и типология утопий // Острова утопии: педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940-1980-е). М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 241-316.
- Кузьминов Я.И, Семенов Д.С., Фрумин И.Д. Структура вузовской сети: от советского к российскому «мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8-69.
- Аксель Иванович Берг. 1893-1979 / ред.-сост. Я.И. Фет; сост. Е.В. Маркова, Ю.Н. Ерофеев, Ю.В. Грановский; отв. ред. А.С. Алексеев. М.: Наука, 2007. 518 с.
- МЭИ. История. Люди. Годы: сб. воспоминаний / под общ. ред. С.В. Серебрянникова. М.: Изд. дом МЭИ, 2010. Т. 2. 559 с.
- Boretska V. Johnny and Ivan learning in a Programmed Way: The Soviet Reinvention of One American Technology // Die Zeitschrift Bildungsgeschichte (International Journal for the Historiography of Education). 2019. No. 1. P. 29-46.
- Pressey S.L. A Simple Apparatus Which Gives Tests and Scores - and Teaches // School and Society. 1926. No. 23. P. 373-376.
- Skinner B.F. Teaching Machines // Higher Education in the United States: The Economic Problems. Cambridge: Harvard University Press, 1960. P. 189-191.
- Watters A. Teaching Machines: The History of Personalized Learning. Chicago: The MIT Press, 2023. 328 p.