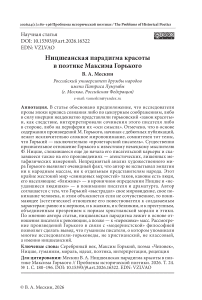Ницшеанская парадигма красоты в поэтике Максима Горького
Автор: Мескин В.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.24, 2026 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновано предположение, что исследователи прозы эпохи кризиса сознания либо по цензурным соображениям, либо в силу инерции неадекватно представляли горьковский «закон красоты» и, как следствие, интерпретировали сочинения этого писателя либо в стороне, либо на периферии их «оси смысла». Отмечено, что в основе содержания произведений М. Горького, начиная с дебютных публикаций, лежит исключительно сложное миропонимание, сомнителен тот тезис, что Горький — исключительно «пролетарский писатель». Существенно признательное отношение Горького к известному немецкому мыслителю Ф. Ницше, сложившееся еще до начала его писательской карьеры и сказавшееся также на его произведениях — атеистических, лишенных метафизических измерений. Непредвзятый анализ художественного мира Горького выявляет очевидный факт, что автор не испытывал эмпатии ни к народным массам, ни к отдельным представителям народа. Этот крайне жестокий мир «свинцовых мерзостей» таков, каковы есть люди, его населяющие: «ближние» — в ироничном определении Ницше и «неудавшиеся людишки» — в понимании писателя и драматурга. Автор соглашается с тем, что Горький «выстрадал» свое мировидение, свое понимание человека, и этим объясняется если не сочувственное, то понимающее (эстетическое) отношение его повествователя к создаваемым характерам: равно и к мерзким, и к жалким, и к безликим, и к преступным, объединенным презрением к нормам христианской морали и этики. По мнению автора статьи, ницшеанская парадигма лежит в основе отношения писателя к революции, а позже — к «перековке» масс. Рассмотрение произведений Горького в связи с «модернистской» философией позволяет сделать вывод, что гуманизм писателя, о котором упоминали многие исследователи-горьковеды, не христианский, не классовый, а именно ницшеанский.
Серебряный век, Максим Горький, поэма «Человек», Ницше, гуманизм, мораль, идеал, поэтика, интерпретация, рецепция
Короткий адрес: https://sciup.org/147253036
IDR: 147253036 | DOI: 10.15393/j9.art.2026.16322
Текст научной статьи Ницшеанская парадигма красоты в поэтике Максима Горького
П онятие «закон красоты», часто упоминаемое в работах по искусству, ввел в середине XIX в. известный европейский мыслитель, противопоставляя сознательное творение красоты человеком ее бессознательному явлению в живой природе [Маркс: 89]. Им, атеистом, категорически отвергалась возможность обусловленности феномена красоты метафизическими началами, Абсолютом. В философско-эстетическом плане красота — абстракция субъектно-объектного ряда, заключающая в себе содержание и форму чувственно воспринимаемого совершенства. Идеал — ее исторически изменяемая проекция в образах нормативного порядка, отображающих характер, деятельность человека или социальной группы.
Закон красоты зиждется на понимании прекрасного и безобразного, должного и недолжного в связи с видением времени, места, способа реализации идеала. В истории словесности Нового времени творческие личности часто соотносили свои идеалы с будущим, по-разному объясняя обстоятельства, которые в конце более или менее длительного процесса будут способствовать чаемой реализации. Этот ряд авторов придерживался, как правило, материалистических взглядов, вера в исторический прогресс нередко заменяла им веру в Бога. Другие творческие личности соотносили свои идеалы с вертикально-религиозным опытом, с обращением к Абсолютному началу, которое призвано способствовать реализации их желаний, надежд. Соответственно, этот ряд авторов придерживался чаще взглядов религиозных, идеалистических. Абстрактному идеалу будущего в этом случае противопоставляется идеал, вытекающий из духовности прошлого-настоя-щего-будущего [Гачев: 57]. В обозримом прошлом в круге прогрессистов теоретиками были, в частности, марксисты, теоретиками другого круга выступали, например, Вл. Соловьев и его последователи. Религиозный философ и поэт писал: «Интересы современной цивилизации — это те, которых не было вчера и не будет завтра. Позволительно предпочитать то, что одинаково важно во всякое время» [Соловьев: 5]. Об авторе, его законе красоты много говорит тот факт, к какому кругу он склоняется.
Трудность определения закона красоты и всего того, что с ним связано, обостряется в кризисные периоды истории, в эпохи утраты одних и поиска других истин, убеждений в самых разных сферах интеллектуальной жизни. Таким периодом был так называемый Серебряный век, конец XIX — начало XX столетия. Хотя и тогда, как всегда, были писатели, чей закон красоты очевиден, лежит, что называется, на поверхности. Они декларировали свой закон красоты и последовательно воплощали его в сочинениях. Таковы, например, А. Серафимович, И. Вольнов, Б. Тимофеев, С. Скиталец, другие писатели этого обширного круга. Они освещали общественно-бытовые, социально-исторические конфликты, при этом уверенно проводили в подтексте разделительную линию между тем, что хорошо и что плохо, между правдой и ложью, а иногда и открыто, в тексте, указывали читателям пути переустройства жизни по ими признанному закону красоты. Показательно в этом смысле признание Серафимовича. «…Я хотел, — говорил о своем воображаемом читателе этот видный представитель писателей-реалистов, — чтобы мои образы, как зубами, схватили его и привели к должным выводам» [Серафимович: 11]. Закон красоты для этого ряда писателей был тесно связан с революцией. Они исходили из того убеждения, что человек по природе добрый созидатель, что раскрыться этой мощи добра, созидания мешают неправильные социальные отношения. С их изменениями, верили они, с необходимостью будут решены все жизненные проблемы, неурядицы.
Центром писателей этого круга был Максим Горький. Научно-критическая литература о творчестве и мировидении этой личности огромна. Большей частью все сказанное о нем лежит в пределах того, что Ю. Борев называл «осью смысла» произведения. По доказательному выводу этого известного филолога-философа, при всей вариативности трактовок произведений искусства, включая, естественно, произведения литературы, каждая трактовка «тяготеет к определенному стержню, к определенному, хотя и способному к расширению, руслу» [Борев: 525]. При этом есть основания предполагать, что литературоведы часто не совсем точно определяли горьковский «закон красоты», трактовали сочинения этого писателя как бы на периферии их «оси смысла». Иначе говоря, в пределах, но далеко от центра этой «оси», в некоторых случаях — очень далеко.
Сам себя Алексей Максимович называл революционером. «Я социал-демократ, потому что я — революционер…», — писал он Л. Андрееву [Горький и Леонид Андреев: 265]. Горький поощрял революционные порывы своих коллег в творчестве, но верил ли он, что социальная революция решит проблемы жизни, — это вопрос. Определенно — хотел верить, но, в отличие от многих своих революционно настроенных товарищей, Горький был человеком более эрудированным, интересовавшимся философией не меньше, чем изящной словесностью, и это не могло не ставить перед ним вопросы о многомерной природе человека, сложностях ее преобразования. О том, что Горький с юности имел страсть к отвлеченным знаниям, писали чуть ли не все биографы писателя.
Горьковский закон красоты не тот же, что у большинства писателей его окружения: он сложнее, не исчерпывается надеждой на социальную революцию, на революционные изменения в человеческой природе. Хотя есть и общее: закон красоты писателей этого круга почти не имеет метафизического дискурса. Максим Горький — редкий случай крупного писателя, художественный мир которого ограничен физическим миром, идеалы — исторической перспективой, без какого-либо намека на вертикально-религиозный опыт. Но именно метафизический дискурс обеспечивает долгую жизнь художественному произведению, выводит его из библиотечной беллетристики. Совершенно очевидно, писатель представлял революцию начальным этапом «перековки» людей, началом болезненного и длительного исторического процесса. Именно поэтому, вернувшись из эмиграции, он принял конвойную сталинскую Россию конца 1920–1930-х гг., увидел в ней продолжение процесса той же революционной «перековки», о чем приветственно писал в очерке «Соловки» (1929) и в книге «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934).
В любом случае чтение сочинений самого Горького не позволяет ответить на вопрос о его понимании целей и задач революции однозначно. Темен, непригляден, нередко безобразен внутренний мир большинства его явно взятых из жизни персонажей. Положительных, тем более героических нет, есть отвратительные маргиналы, бунтари-изгои, есть слабые, вызывающие сочувствие персоналии. В относительно краткий период середины второго десятилетия творчества он являет небольшой ряд героев-революционеров, но их характеры, созданные на злобу дня, малоубедительны. Самый известный из них — Павел Власов, герой романа «Мать». Главный революционер-большевик той России В. Ленин, знавший толк в литературе, снисходительно назвал это сочинение Горького «своевременной книгой» [Горький; т. 17: 7].
В зрелом цикле «По Руси» (1912–1917) двадцать девять рассказов, и в них нет ни одной описанной с полной симпатией личности. Особняком стоит близкий самому автору характер, «проходящий», от лица которого ведется повествование. Здесь перемежаются типы звероподобные, жалкие и, так сказать, никакие. Нет героя — сетует автор-повествователь в рассказе «Герой» (1915), «жизнь неприглядна и грязна» [Горький; т. 11: 311]. Справедливо заключить, что и ранние рассказы, напри мер, «Вывод» (1895), «Скуки ради» (1897), «Двадцать шесть и одна» (1899), и цикл «По Руси», и многие другие более поздние сочинения Горького — это преимущественно пугающее изображение ущербной природы человека, как бы ненужных людей. Интеграл этого изображения — повесть «Жизнь ненужного человека» (1908), жизнь несчастного бесцветного недотепы Евсея Климкова, коему имя — легион. Вслед за тем написанные повести «Городок Окуров» (1909), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1911) — все о том же: о тоске, дикости, жестокости, самодурстве, о серой жизни ненужных людей, «неудавшихся людишек». В прошлом все самое мрачное в художественном мире Горького и не только объясняли неправильным государственным устройством. Сейчас это объяснение не кажется вполне убедительным.
Апофеоз горьковских обвинений в адрес человека как такового — рассказ «Зрители» (1917), один из самых выразительных в цикле «По Руси». Известно, что Горький осуждал Л. Андреева за рассказ «Бездна» — о звериных началах, сокрытых в человеке, но именно о том же — его «Зрители». yj Но если, по Андрееву, звериное в человеке проявляется в исключительных обстоятельствах, то по Горькому, — это обыденность. Лошадиное копыто раздробило ногу сироте-подмастерью. Несчастный лежит, истекая кровью, на обочине. Множество городского люда проходит мимо ребенка, но никто не снисходит до помощи ему, более того, никто не выражает сочувствия. Кто-то ругает мальчонку за неосторожность, кто-то и смеется над ним. Самое знаковое в рассказе то, что в галерею равнодушных Горький вписывает представителей всех званий и сословий, это обобщенный портрет современника. Мальчик отполз к забору, оставив кровавый след в дорожной пыли, и к вечеру умер от жажды и гангрены.
В экспозиции рассказа «Рождение человека» (1912), открывающего указанный цикл, автор-повествователь замечает: солнцу часто «очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а — не удались людишки…» [Горький; т. 11: 8]. Замечание не спонтанное, это философское обобщение плана содержания всего цикла и не только. Горьковское «не удались» в адрес людского множества проходит через все его творчество, мысль озвучивается немногими исключительными, способными к осмыслению явлений жизни и масс персонажами. Так, например, добродушному либеральному ученому-биологу Протасову в пьесе «Дети солнца» (1905) народ представляется «водорослями и раковинами», присосавшимися к символическому кораблю, уносящему гениев мысли, вроде Лавуазье и Дарвина, в светлое будущее, «мертвыми клетками в организме» [Горький; т. 6: 320].
К массовому человеку, как он есть, у Горького нет выражения любви ни в прозе, ни в драматургии, ни в публицистике. В статье «Заметки о мещанстве» (1905) Горький с ненавистью пишет о сословии, представляющем большинство городского населения, ненависть вызвана его смиренным законопо-слушанием. Да, автор оправдывает свои гневные разоблачения тем, что они направлены против мещанского «строя души», но это не меняет дела. «Жалкое существо <…>, — рассуждает автор в конце статьи, — но о нем необходимо говорить больше всего, как это ни противно» [Горький; т. 23: 366]. Можно предположить, что Горький понимает и принимает сельское население, крестьянство, но и это не так. Еще большей нелюбовью отличается многократно выраженное отношение писателя к крестьянству — за дремучее бескультурье и за ту же социальную пассивность. Об этом, по сути, его человеконенавистническая статья «О русском крестьянстве» (1922). «Не люблю я мужичка, — признается Горький в писательском общении, — не люблю. Вообще, не люблю деревни» [Шишков: 230]. Еще заметим, «мужичок» — это восемьдесят пять процентов населения тогдашней России. Но ненависть к людскому множеству — это опять-таки ненависть к человеку как он есть.
Горький видел темные потенции, таящиеся в народных массах, прежде всего жестокость, и все же призывал их к преодолению социальной пассивности. Под лозунгом свободы для всех революция выводила из-под государственного надзора и человеков, и недочеловеков, которых он в избытке описал в своих произведениях. Сомнения в благости тотального освобождения масс, причем провидчески, одолевали тогда многих писателей, и не только писателей, но не Горького. В период создания «Несвоевременных мыслей» (1917–1918) ожидаемый хаос смутил «буревестника революции», но ненадолго, а главное — не изменил выношенных целевых установок. У Горького есть публицистические признания в любви к человеку, «умному, доброму, сильному», но — на потом, «который явится когда-то в будущем» [Горький и Леонид Андреев: 373]. Это важный пункт горьковского закона красоты, по которому создавался его художественный мир. Эволюция — это долго, революция, согласно марксистской доктрине, — «локомотив истории». Писатель относился к революции как к началу грандиозной рукотворной «перековки» масс.
В советском прошлом, в котором Горький был возведен в ранг классика номер один, о его гуманизме, любви к людям было написано множество работ. И относительно недавно опубликованная статья начинается фразой: «Идея гуманизма владела M. Горьким на протяжении всей его творческой деятельности» [Михайлов: 204]. С внедрением в искусство метода «соцреализма» исследователи стали градуировать горьковский гуманизм, писали о его «социалистическом» или «революционном», «новом» гуманизме. Но гуманизм, в классическом, иначе говоря, в христианском понимании, вне каких-либо определений — он либо есть, либо его нет. У Горького его нет. Евангельский гуманизм в письме 1928 г. он однозначно называет «плохой вещью» [Федин: 415].
В. Ходасевич, близко знавший мэтра, полагал, что горьковское отношение к людям было им выстрадано: «Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях» [Ходасевич: 160]. Ходасевич, периодически живший под одной крышей с Горьким, хорошо знал, где его старший товарищ «вычитал» эту мечту: там же, где уверовал в новый гуманизм и нашел свой закон красоты. Согласно этому новому гуманизму, человек современный, «ближний», не заслуживает любви, напротив, его, «падающего», следует подтолкнуть, любви заслуживает человек «дальний», идеальный, мыслимый.