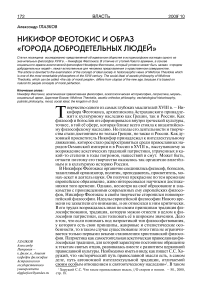Никифор Феотокис и образ "города добродетельных людей"
Автор: Глазков Александр Петрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию представлений об идеальном обществе в историософских взглядах одного из значительных философов XVIII в. - Никифора Феотокиса. В отличие от утопий Нового времени, в основе социального идеала аскетической философии Никифора Феотокиса, который условно может быть назван «городом добродетельных людей», лежат естественные для человека представления о нравственном совершенстве.
Никифор феотокиc, аскетическая православная философия, эсхатологическая историософия, патристика, мораль, социальный идеал, царствие божие
Короткий адрес: https://sciup.org/170164612
IDR: 170164612
Текст научной статьи Никифор Феотокис и образ "города добродетельных людей"
Т ворчество одного из самых глубоких мыслителей XVIII в. – Никифора Феотокиса, архиепископа Астраханского принадлежит к культурному наследию как Греции, так и России. Как философ и богослов он сформировался внутри греческой культуры, точнее, в той её сфере, которая ближе всего стояла к византийскому философскому наследию. Но плоды его деятельности и творчества стали достоянием не только Греции, но также и России. Как духовный просветитель Никифор принадлежал к интеллектуальному движению, которое стало распространяться среди православных народов Османской империи и в России в XVIII в., выступавшему за возрождение аскетических традиций патристики, утраченных в какой-то степени в годы погромов, нашествий и смут. Может быть, отчасти поэтому его творчество оказалось так органично вплетённым и в культурную историю России.
ГЛАЗКОВ Александр
В Никифоре Феотокисе органично соединились философ, богослов, талантливый организатор, политик, преподаватель, просветитель, монах-аскет и деятель науки. Он получил прекрасное по тем временам европейское образование, живо интересовался научными достижениями того времени. Однако, несмотря на своё образование и знакомство с произведениями современных ему европейских философов, Никифор Феотокис в своём творчестве сторонился новоевропейской философии. Идеалы европейской философии Нового времени не захватили его внимание, и он относился к ним критически. В его трудах возрождалась иная по своим принципам традиция философствования, традиция, которую можно отнести в целом к философии патристики, если толковать её в широком значении. Дело в том, что если понимать под патристикой тип философствования, у которого есть свои принципы, жанровые и стилистические особенности, то в таком случае существование этого типа не ограничивается только первыми веками становления христианской философии. Патристика как самостоятельная аскетическая православная философская традиция, для которой характерно постоянное обращение к текстам святых отцов, развивалась вместе с развитием церковной православной культуры. Необходимо иметь в виду, как пишет С.С. Хоружий, что «исторический путь православной мысли есть, в самом деле, путь автономной интеллектуальной традиции, отличаемой своим особ ым отношением к святоотеческому наследию»1. В таком
1 Хоружий С.С. Что такое православная мысль //О старом и новом. – М., 2000, стр. 18.
случае мы можем отнести и творчество Никифора Феотокиса именно к философии патристики в широком её понимании.
Одной из особенностей этого философского типа, окончательно сложившегося в догматической своей части к концу эпохи Вселенских соборов, является повышенное внимание к вопросам нравственности. Философия патристики рассматривает нравственность человека как своего рода духовную онтологию человека. Поэтому с точки зрения этой философии мораль, если понимать под этим словом социальное (и личное) поведение по правилам (нормам), которые приняты обществом, согласованы с преобладающим усреднённым общественным мнением и которые могут поэтому исторически меняться, будет различаться с понятием нравственности. Мораль – это одобряемое общественным мнением поведение. Нравственность же – это своего рода онтологическое состояние человека, его расположенность и настроенность его внутреннего духовного мира. Нравственные нормы и ценности сами по себе абсолютны, неизменны и не подвластны историческому времени. Возможность соединения морального аспекта поведения людей и нравственного онтологического состояния личности открывается через понятие добродетели. Добродетель – есть социальное действие, которое может характеризовать человека с его нравственной стороны и вместе с тем приниматься обществом как безусловно приемлемая и похвальная норма поведения своих членов. Хотя можно допустить и расхождение между представлениями о добродетели общественного мнения и отдельного человека, но вместе с тем в самом формальном понимании добродетели моральный и нравственный аспекты поведения человека полностью совпадают. Расхождение между личными и общественными представлениями и предпочтениями может преодолеть лишь наделение добродетели религиозно-догматическим статусом. Что считать добродетелью, должно решать не общество и не отдельный человек. Абсолютность понимания добродетели может вытекать лишь из божественного авторитета Священного Писания. Такая постановка вопроса о добродетели характерна для любой религиозной философии, которая имеет своими принципами абсолютные по своему статусу догматы Боже- ственного Откровения. В этом случае добродетель как одобряемое Богом внешнее проявление нравственных качеств человеческой души будет вместе с тем и моральным фактором социальной жизни. Такое соединение личного, т.е. нравственного, и социального, т.е. морального, аспектов будет иметь вместе с тем и характер божественных вечных ценностей, не подвластных историческим изменениям и какому-либо развитию. Ведь развиваться может что-то несовершенное, которое стремится достигнуть совершенства, а нравственные идеалы Священного Писания уже и есть само совершенство, к которому должен стремиться несовершенный человек. Идеалы как нравственные принципы, который изложил сам Бог (например, в Нагорной проповеди Иисуса Христа), естественно, развиваться не могут, но может развиваться сам человек в стремлении сделать эти идеалы нормой своей жизни.
В этой связи представляется интересным рассмотреть представление о социальном идеале, которое исходило бы из принципов православного христианства. Вопрос заключается в том, чтобы определить: какое общество можно было бы назвать идеальным, образцовым с точки зрения безопасного и счастливого проживания? Представление о таком обществе-городе можно рассматривать как своего рода идеальный проект социального бытия, образ идеального, самого лучшего общества для земного пребывания человека.
Это представление об идеальном обществе, которое можно было бы условно обозначить как «город добродетельных людей» (или «добродетельный город»), присутствует в христианской (и не только) литературе. Такое представление мы можем вычленить и в историософской части философского наследия Никифора Феото-киса. Образ «добродетельного города» как социального идеала присутствует в различных древних и средневековых философских системах. Но Никифор говорит о «городе добродетельных людей» в XVIII в., подчеркивая актуальность этого образа и в современную ему эпоху Нового времени. Этот образ представляет собой идеал общественного совместного бытия людей, по-своему разрешающий проблему «войны всех против всех». Если в новоевропейской философии эта проблема решается через разработку политико-право- вых механизмов, то в рассуждениях этого греческого мыслителя эта проблема решается через нравственное преображение личности. Поэтому у Никифора этот идеал не имеет подробных социальных, политических и экономических описаний, которые так характерны для различных утопий эпохи Возрождения и Нового времени. Образ этот схематичен и прост, но суть его в том, что «добродетельный город» – это, прежде всего, общество, в котором живут добродетельные люди. Именно в этом и ни в чём другом залог нормального благополучия и счастливого безбед-ственного и спасительного для души существования в этом временном мире в ожидании всеобщего эсхатологического преображения Земли.
Концентрация внимания на нравственном устроении души человека приводит к тому, что вопросы правового, социальнополитического устройства, формы правления отходят на второй план. Достаточно знать, что, как пишет Никифор, «потребность и нужда во взаимной друг другу помощи созидает грады, и эта нужда учит быть (гражданским. – А.Г.) учреждениям в них»1. Совместное бытие составляет единое целое – «город». Всякий град подобен телу человеческому, всё людское связует и сохраняет2. Это понимание, которое идёт от философского учения Платона, Никифор принимает полностью. Однако не эти общественные и политические учреждения характеризуют с точки зрения патристической философии идеальное общество. Главное в таком обществе – это нравственные ценности – добродетели, которых придерживаются люди, составляющие это общество. В таком случае качество совместной жизни этого города, включающее в себя мир, спокойствие и благополучие в каждом и для всех, зависит напрямую от нравственных качеств его жителей. В то же время добродетель – есть жизнь по установленным Богом, и, значит, для верующего человека обязательным нравственным законам. И как пишет Никифор, Бог не для того дал законы, чтобы утвердить злоупотребления и неправды человеков, Бог «дал Божественные Свои законы, чтобы исправить злоупотребления и неправды и открыть Божественные и че- ловеческие права…»3. Таким образом, благополучно существующий добродетельный город – это, с одной стороны, соединение необходимых для взаимопомощи во временной социальной жизни общественно значимых занятий (ремёсла, художество, учительство, врачевание, судейство, начальство, стража, правительство и т.д.), а с другой стороны – твёрдые неизменные нравственные абсолютные ценности, которых придерживаются его граждане и которые имеют обоснование не в человеческом разумении, а в самой Божественной воле. Ценности, которые утверждает Божественный закон (Божественная воля), по Никифору, – это правда, целомудрие, истина, любовь, кротость и послушание. Никифор спрашивает: когда у нас спокойствие в душе, тишина в совести, когда мы делаем зло, нарушая Божественные законы, или когда мы делаем добро, соблюдая эти Божественные законы (за-поведи)4? И Никифор сравнивает как бы два возможных крайних и противоположных друг другу варианта общественного бытия, задавая вопрос: какой город избе-рёшь ты для жительства? Первый город – это тот, «в котором царь праведный и милосердный, начальники кротки и тихи, судии праведны, воины благочинны, купцы любящие истину, художники не коварны, все в оном обитающие целомудры, благолюбивы, милостивы, друг друга любят, и друг другу благодетельствуют, где все живут по совести, добродетели и истине». Второй город – это тот, «где царь неправедный и немилосердный, начальники … жестоки, воины бесчинны, купцы лжецы, художники коварны, все жители любострастны, и добру ненавистны, немилосердны, друг друга ненавидят, и друг другу вредят»5. Выбор для здравомыслящего человека очевиден, и он будет сделан в пользу первого города, то есть города добродетельных людей, придерживающихся нравственных принципов.
Надо сказать, что такой описываемый Никифором «город добродетельных людей» – это всё же идеал, и как идеал он допускается или обосновывается лишь теоретически. Но, несмотря на это, он в то же время и не утопия, которая создаётся мечтанием и фантазией. Добродетельный город – реальная и вполне возможная, во всяком случае по силам человеку, альтернатива этому миру – миру, где орудует зло, убийство, миру, где преобладают насилие, ложь и рабство. В отличие от утопии, «город добродетельных людей» реален и может быть создан, если этого захотят, естественно, свободно сами люди. Требуется не допускать зла, прежде всего, в своих поступках, тем более в поступках начальствующих и судей. Правило поведения очень просто: «И если ты творишь добродетель, следуй этим путём; ибо доведёт она тебя до блаженства. Если же к греху прилепляешься, отвратись от него; ибо он тебя низвержет в погибель»1. При этом Никифор особо отмечает, что эти добродетели не есть что-то запредельное для возможностей обыкновенного человека, они вполне ему под силу. Он пишет, что евангельские повеления сами по себе свойственны и весьма полезны людям, и кажутся несвойственными лишь по нашим склонностям и расположениям»2. Т.е. достаточно изменить наши склонности и внутреннее расположение души, что реально и под силу каждому без исключения человеку, была бы на то свободная его воля, и следование добродетели уже не будет казаться каким-то неестественным подвигом, который доступен лишь отдельным святым. Никифор указывает, что множество людей живут добродетельно и по евангельским заповедям, имея внутренний мир и благополучную счастливую жизнь. По мысли Никифора, в естестве человеческом есть врождённый нравственный закон – совесть. Этот естественный закон ведёт человека к соблюдению установленных Богом нравственных законов3. Он пишет: «Совесть и здравый рассудок дают (всем людям. – А.Г.) знать, что есть добро и что есть зло, спослушествуй (следуй свидетельству. – А.Г.) совести»4. Должное для поведения человека – это испол- нение добродетели в любом деле. Должное – это значит выполнение долга перед Богом, ближним своим и перед самим собой. Вот что пишет Никифор: «Кто творит какую-нибудь добродетель, тот исполняет должное и праведное, чем обязан он Богу, ближнему и самому себе»5.
Пределы времён установлены, и эсхатологические времена, то есть времена перехода в будущую жизнь, неизбежны. Но православный провиденциализм исключает жёстко предопределённый один сценарий человеческой истории, то есть ли-неарность поэтапного восхождения к Царствию Божьему или поэтапного же нисхождения к апокалиптическим временам. История развивается свободно и си-нергийно и в соответствии с произволением человека. Как пишет Никифор: «Человек имеет произвольное и свободное хотение избирать и делать добро и зло: Единое хотение Божие не довлеет ко спасению человека, но нужно и содействие хотения человеческого»6. Предопределено только то, что онтологично и является безусловным благом, добром для человека, – Царствие Божие. Человек в истории действует свободно, но за этой свободой таится и ответственность за свои поступки. Возмездие или награду в этой жизни и в будущей вечности он получает в зависимости от своего свободного выбора.
Никифор пишет, что если сделать сердце человека незлобивым, то тогда люди станут невинными и простыми, «снисходящими один к другому в немощах и погрешностях».
А раз так, то в рассматриваемом нами типе философствования речь идёт не о социальных, по сути, законах исторической предопределённости и необходимости, а об этическом, нравственном выборе каждого человека, его свободном волеизъявлении к добру или злу.
Статья выполнена при поддержке Федеральной программы «Развитие научного потенциала высшей школы 2009–2010 гг.»