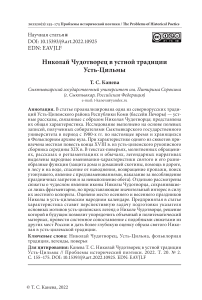Николай Чудотворец в устной традиции Усть-Цильмы
Автор: Канева Татьяна Степановна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована одна из севернорусских традиций Усть-Цилемского района Республики Коми (бассейн Печоры) - устные рассказы, связанные с образом Николая Чудотворца; представлена их общая характеристика. Исследование выполнено на основе полевых записей, полученных собирателями Сыктывкарского государственного университета в период с 1980-х гг. по настоящее время и хранящихся в Фольклорном архиве вуза. При характеристике одного из сюжетов привлечена местная повесть конца XVIII в. из усть-цилемского рукописного сборника середины XIX в. В текстах-поверьях, молитвенных обращениях, рассказах о регламентациях и обычаях, легендарных нарративах выделены народные именования-характеристики святого и его разнообразные функции (защита дома и домашней скотины, помощь в дороге, в лесу и на воде, спасение от наводнения, возвращение пропажи, поиск утонувшего, явление с предзнаменованиями, наказание за несоблюдение праздничных запретов и за невыполнение обета). Отдельно рассмотрены сюжеты о чудесном явлении иконы Николы Чудотворца, сохранившиеся лишь фрагментарно, но представляющие значительный интерес в силу их местного колорита. Оценено место осеннего и весеннего праздников Николы в усть-цилемском народном календаре. Предпринятая в статье характеристика ставит перспективную задачу подготовки указателя основных мотивов усть-цилемских легенд о Николе Чудотворце, решение которой в будущем позволит упорядочить объемный и политематический материал, провести системное сопоставление с подобными сюжетами из других мест России и дать более глубокую оценку образа святого Николая в усть-цилемской традиции.
Николай чудотворец, усть-цильма, фольклорная традиция, легенды, поверья
Короткий адрес: https://sciup.org/147237932
IDR: 147237932 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10925
Текст научной статьи Николай Чудотворец в устной традиции Усть-Цильмы
Спервых лет своего существования Усть-Цилемская слободка, появившаяся при впадении Цильмы в Печору в начале 1540-х гг., связана с именем святителя Николая Чудотворца. Именно ему была посвящена первая в этой местности церковь, возведенная в 1547 г. основателем Усть-Цильмы Иваном Дмитриевичем Ласткой. В честь святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, освящались впоследствии и другие православные и единоверческая церкви в с. Усть-Цильма [Краткое историческое описание: 394–395], а в новое время — и молитвенный старообрядческий дом, и ныне действующая старообрядческая церковь. По свидетельству В. Н. Латкина, побывавшего в Усть-Цильме в 1840-х гг., «образ Святителя <…> весьма уважается в здешнем крае: редкие проплывают мимо Усть-Цильмы, не отслужа молебна и не помолившись Угоднику»1. Святой Никола / Микола занял важное место в поверьях устьцилёмов, в их народных религиозно-магических практиках, а также в устной прозе.
В обширной литературе, посвященной фольклору, верованиям и почитанию святителя Николая Чудотворца в русских традициях2, работы, отражающие регионально-локальную специфику этих явлений, встречаются не так часто3, что придает предпринятому нами исследованию определенную новизну.
Прежде всего, обратим внимание на то, что полученные в Усть-Цильме собирателями материалы подтверждают славу Николая Чудотворца как важнейшего для русского народа святого, «почитание которого приближается к почитанию Богородицы и даже самого Христа» [Успенский: 6] (см. также: [Белова: 398]). Живописные изображения святого и его меднолитые образки на домашних божницах устьцилёмов принадлежат к числу наиболее популярных (см. об этом: [Дронова: 139], [Афанасьев, 2018: № 34–48]). Подобное наблюдение сделано и при оценке бытования Жития Николая Чудотворца у печорских старообрядцев [Волкова: 48]. В устных рассказах и молитвах он наделяется разнообразными именованиями, отражающими широкий круг его «народных» характеристик: Господу / первый / скорый помощник, скори́ тель, скорый пособник, тёплый согреватель / заступник / уступник, кормилец милостивый, святитель Микола милостлив / многомилостлив, моле́бник, спаситель и др. Как адресат разнообразных молитв очень часто он оказывается в одном ряду с Господом Богом (Христом) и Богородицей. Так, например, одна рассказчица вспоминала об опасной ситуации в своей жизни, в которой она, по ее убеждению, оберегла себя обращением к святителю Миколе и Пресвятой Божьей Матери:
«…в Нерицу сводку надо было везти. <…> И вот меня эта гроза подхватила. И ведь и гром, молнии, и я ничё не боялась, только всю ночь я повторяла: “Микола-святитель да Пресвята Божья Матерь Богородица”. <…> И надо было перебродить три, три брода. <…> И чё вы думаете: у меня платок сбился, я вся мокрая, и вокруг меня как будто рыба прыгала — молнии. <…> Но меня не тронуло, значит, кто-то меня охранял всю дорогу. Вот такие чудеса произошли!» (СГУ: 03367-87)4.
В одном из вариантов усть-цилемской «путеводной» молитвы видим пример «народной Троицы» (ср.: [Успенский: 7]):
«“Святой Спаситель, Пресвятая Мати Божья Богородица, святитель Христос Никола, спасите, сохраните нас, выведите нас на дорогу” — вот эта молитва» (СГУ: 03159-35).
В молитвах и их пересказах, записанных от устьцилёмов, явственно обозначено патронирование святым Николаем всех подпространств мироздания:
«Святой Микола-угодник, Господу помощник, ты в поле, ты в доме, ты на земле, ты на воде, ты на небе и на земле, моли Бога за мою душу грешную, дай ума да разума!» (СГУ: 03210-8)5.
Он признается своего рода «универсальным» святым, помощи которого ищут в любое время, в любом месте и «от всех напастей» (СГ У: 03135-55а):
«Святитель Никола Чудотворец, избави раба Божьего — там, скажем, Иоанна — избави его от всякой пр и́ тчи-нап а́ сти, от злых людей, от зверей в путях-дорогах, на воде, на земле, в небе!» (СГУ: 03399-20);
«Хоть кака беда, хоть ковды можно ему помолитьсе, хоть кака беда: “Помоги, Осподи, кормилец Микола милостив!” — вот и всё. <…> Я всё Миколе обращаюсь, когда чё ле мне неладно дак» (СГУ: 03291-30);
«Больше всех Николы и молимсе мы» (СГУ: 03165-24);
«Кака ле худоб а́ , дак Миколу пуще просят» (СГУ: 03230-51);
«Мати-то <…> говорила: Миколу-то святителя просите сами, где в неволи дак» (СГУ: 03163-36).
При этом в усть-цилемских верованиях можно выделить и конкретные функции святого. К таковым относится защита дома. Об этом свидетельствуют и пословица ( «Микола-святитель — дому хранитель» (СГУ: 03134-9) ) , и молитвы ( «Великий Микола-святитель, первый помощник, сохрани и сбереги наши хоромины от всякой притчи-напасти, от злых людей и от пожаров!» (СГУ: 03367-40) ) , и сообщения об обычаях новоселья ( «В новый дом заходят, дак Миколы Чудотворцу молебен поют» (СГУ: 03182-23) ) , и непосредственные суждения носителей традиции в контексте разговора об оберегах дома при отъезде ( «Мы когда уезжаем, к Николы обращаемся, он же хранитель очага, дома: <…> “Никола-святитель, кормилец, Осподи, спаси да сохрани от злых людей, от злой судьбы-напасти!” — это так к нему обращаемся, <…> что “храни, на тебя вся надежда за домом следить”. Вот Никола у нас» (СГУ: 03293-42) ) .
Так же, как Николе доверяли дом, на него возлагались надежды и по сохранению домашнего стада. Святому Николаю усть-цилемские хозяйки сул и́ ли об е́ ты [Дронова: 205] и творили молитвы при первом выгоне скота на пастбище:
«Из хлева выпускают и там тоже обращаются: “Никола-святитель, спаси да сохрани да домой приведи!”» (СГУ: 03293-44).
Известный народный обычай оставлять при этом под матицей срезанную с хвоста животного шерсть также сопровождали порой этим молитвенным обращением к «скотьему богу» [Успенский: 31, 44], «чтобы Никола привёл её [корову]
потом домой» (СГУ: 03293-44)6. «С Миколой» оставляли скотинку и в хлеву. Один из меморатов, связанных с этой темой, построен на легендарном сюжете явления святого, предупредившего хозяйку о беде со скотиной:
«Моей бабушке этот Микола-святитель и явилсе. Вот раньше, раньше, давно было, как своё житьё еще. А бабушка-то у меня была така, в Бога она ещё верила и всё в Миколу-святителя. Было девять коров, <…> и она всё оставляла, говорит: “С Миколой-святителем пойдёшь да”. С Миколой. Как двери закрыват и: “Спаси и сохрани, Ми…” — как с Миколой-святителем оставляла. Дедушка зашёл, это, весь белый дедушка: “Бажёна7, — говорит, — иди во хлев-от, там у тебя неладно!” Или ей приснилось, или она как будто увидела. <…> Она взяла, бабушка моя, нож и пошла, а они там это все, тесно дак, они так перешли и давятся. Так это ведь необъяснимо, ведь необъяснимо, как это! Она набожна была, бабушка-то, набожна была. Вот таки чудеса происходили» (СГУ: 03367-93).
В усть-цилемских записях имеются и примеры личных обращений к святому в разных жизненных ситуациях — как в драматичных, так и в сугубо бытовых. В качестве первого примера можем привести молитву (моление) Николаю Чудотворцу о защите мужа-фронтовика, переданную в воспоминании рассказчицы-дочери:
«…запомнила вот свою мамку, когда у меня от отца не было никакой вести. Это он на войне был. <…> Дак она печку затопит и это, в огонь глядит и там: “Господи, Микола-святитель, спаси и сохрани на пути, на дороге от злых людей! Пусть пуля мимо пролетит! Пусть там тебя святые спасут там тебя! Пусть добры люди там тебе помощь окажут!” — всё это, на огонь глядела, и всё она это причитала8» (СГУ: 03367-113).
Примеры второго рода — и бытовые, и курьезные; они свидетельствуют о поистине народном статусе святого, которого призывают даже при трудностях вдевания нитки в иголку9, при пропаже лодочного мотора10, при поимке «боевого коня»11 и в других ситуациях, на что в определенной степени указывает и бытовавшая на Печоре пословица о беспечной уверенности людей в бескорыстной заботе Божьего угодника: «Брось под гору — храни, Микола!» [Канева, Ильина: 218, № 455].
Одна из главных функций святителя Николая в народных верованиях — помощь «в пути-дороге». В рассматриваемых материалах имеется немало сообщений, во-первых, о заблаговременных действиях, которые совершаются устьцилёмами для обеспечения благополучной поездки: накануне принято заказывать «грамотным старушкам» (в последние годы — в молельных домах, в церкви) молебны Николаю Чудотворцу, с этой же целью покупают и ставят перед образом святителя свечи.
Во-вторых, это рассказы о происшествиях в дороге, построенные на сюжетах легендарного характера о помощи Николая-угодника. Большинство из них переданы как личные истории или случаи из жизни односельчан / родственников, и этим они сближаются с быличками. В общем виде повествования развиваются по одной сюжетной схеме: беда — молитва / обет Николе — избавление от беды. В качестве отправных выступают мотивы «человек заблудился в лесу» или (условно) «трудности передвижения» («проблемы с транспортным средством»: сломанная / застрявшая машина или завязший конь). Избавление от беды объясняется рассказчиками откликом на мольбы святителю Николаю: чудесным появлением некоего путеводителя (это может быть внезапно показавшийся и исчезнувший «старичок» — сам Никола12 / белый телёнок13 / голос (рёв) телёнка14) или реально подоспевшей помощью15. Другим вариантом разрешения опасной дорожной ситуации является невидимое чудесное вмешательство Николы — при этом эмоциональность повествования усиливается мотивом уверования в святого: когда конь безнадежно увяз («засел») в ручье, сын рассказчицы вспомнил о Миколе:
«Никак его [сын] добыть не может. <…> Уж почти… узду хотел снять — потоп а́ т16 уж конь совсем. <…> Всё говорят: Микола есть. <…> Эту молитву только сказал: “Микола милостив, если есть ты — нет? Если есть, пусть у мня конь выйдет” — и конь вышел! <…> А он нековды не верил, дак он говорит: я уж нынче так верю этому Миколу! <…> Я уж всегда его призываю» (СГУ: 03291-3 6).
Верой в чудесную помощь небесного покровителя странствующих по воде проникнуты усть-цилемские легендарные нарративы о заставшем в пути ледоходе:
«Один мужик ехал-ехал по реки, а лёд уж шевел и́ тсе, шеве-л и́ тсе… <…> А рекý-то понесло, а он остался на льдинки. <…> Он сотворил молитву эту “Микола-святитель, спаситель…”. А льдинка стала да и стоит, упёрлась это в крёж17. И стал он, перескакал. Вот вишь, Микола-то спас, закрепил реку. <…> Он это, Микола-то, еше упёр там эту льдину-ту, чтобы переехать ему. Он и переехал на лошад и́ как ле, стегал-стегал лошадь да и перескочил на ту сторону» (СГУ: 03163-36).
Очень близка этим сюжетам группа рассказов о помощи Николы Чудотворца тонущему человеку. Как и «дорожные истории», они нередко служат иллюстрациями к характеристике Николы как скорого помощника . Построенные практически по той же схеме (беда — молитва — спасение), они сходны между собой проявлением чуда: по горячей молитве попавшего в беду ( взмолился )18 святой дает страждущему опору под ноги:
«как будто тут чё-то подсунется ведь» (СГУ: 03139-6.1),
«как вроде подсунет чё-то п о́ д ноги» (СГУ: 03361-15),
«…Тонул. И стал Миколу призывать, и как будто какой-то ему там клоч19 под ноги попал, и он выплыл» (СГУ: 03367-39),
«…Несёт, ноги не достают, а тут камень где-то надо же, ли кошка20 ли — что-то появилось. <…> Микола. Призвал — и всё. Сразу эта кошка или камень появилось, он упёрся да и…» (СГУ: 03173-14, 16).
В Печорском крае, как и вообще на Севере, реки играют неоднозначные роли в жизни людей. Часто они сопряжены с опасностью, нередко становясь и местом гибели, и могилой. Несколько «никольских» текстов, записанных в Усть-Цильме, связано с сюжетом поиска утонувших, в них рассказано о разных способах обращения к Николе-святителю: усиленной молитве с пением молебнов21 и пускании иконы Чудотворца по воде — с верой в то, что она укажет (проявит) место нахождения тела22.
В одной личной истории женщины, ходившей на морском судне поваром, свое спасение во время шторма рассказчица связала с данным ею обещанием спеть молебен Николаю Чудотворцу:
«Вся команда утонула, а я спаслась. Бог миловал меня, спаслась, успела заранее, пока судно не пошло ко дну, я успела выброситься, и меня, спасательное судно пришло и спасло меня. <…> Я тогда вот, действительно, в Бога поверила. Я посулила молебен Николы-святителю. А у мня дед тоже был грамотный, и я говорю: “Если есть Бог на свете, спасусь, то пусть, — говорю, — дед споёт молебен Николы-святителю”. Когда меня спасли, когда я приехала, я сразу написала домой письмо и сказала, что так я обещала Николы-святителю молебен. Мама говорит: пели молебен за меня» (СГУ: 03170-45).
Это повествование отличают мотивы обретения веры в Бога (как и уже приведенный рассказ о спасении коня, засевшего в ручье), а также назидательная установка о необходимости выполнения обещанного:
«Но обязательно, если пообещал, надо выполнить, обязательно спеть молебен этот. Если уж пообещал, то надо выполнить» (СГУ: 03170-46).
Это не единственный пример появления мотива обета Николаю Чудотворцу в рассматриваемых усть-цилемских нарративах. Он выявлен в сюжетах о поиске заблудившихся в лесу, о спасении при наводнении и др., об обетах сообщается также в рассказах о почитании святого (в фольклорно-этнографических интервью). Весьма примечательно, что обеты Николе-спасителю приводили усть-цилемских староверов-беспоповцев к церкви — в единоверческий или даже, возможно, в православный храм в с. Усть-Цильма, где на Николу зимнего устраивалась ярмарка, на которую съезжались не только устьцилёмы, но и православные жители соседней коми Ижмы, а также ненцы [Дронова: 43], [Ильинский: 300]:
«…ярмарка раньше была. <…> А около церкви там всё была. <…> Вот там на Миколу, когда обещаютсе — опять цё ле худ о́ дак, <…> говорят: ну, Миколы обещай святителю. Дак раньше хто яица несут, кто… К Миколы это всё к церкви носили. <…> Всё и в вёш-ный день к Миколы носили. <…> Вот там в церкви, там же и продавали и, вот это на свечи, на ладан это всё, там это делали» (СГУ: 0341-15);
«Ему раньше овещались, что это святителю Миколы, овеща-лись: кто чё ле заболет, ли у кого ле чё ле случится, овещаются Миколы, чтобы он помог, да. И поовещаются ему отдать, да. И этот Миколин день живет два раза в году: осенью и весной. <…> И кто чё овещался Миколы, привозили, тут Миколы отдавали. Тут принимал человек. <…> Ну, и этот принимал не за деньги, ничё, так, а это, доложно быть, продают да святителю Миколы на это — на свечи, свечи да ладан да чё да» (СГУ: 03350-26);
«В Миколин день ездили23, в церковь ездили, да. Церьква, две еще было. <…> Кто овещаются, дак ездят. <…> Вот чё ле случится, вот там кладут Миколы, деньги положат. [В церковь?] Да» (СГУ: 0366-30).
Довольно часто Николе «сул и́ ли» быка или теленка. Так, например, во время наводнения, когда дом «заклало льдом»:
«Ваня Трифонов, был такой, <…> как будто бы на крыше сидели они, дак он пообещал: “Если, — говорит, — я, жив ы́ останемсе, так Миколы-святителю отдам…” — трехгодовалый бык был. <…> И вот он свёл весной Миколы этого быка, отдал» (СГУ: 0341-15).
В другом рассказе обещанием теленка Николе Чудотворцу объясняется спасение заблудившейся женщины:
«Одна старушка заблудилась. <…> Ну, и <…> поовещались, чтобы ей найти как ле, телёнка поовещали. <…> Святителю Миколы телёнка свели…» (СГУ: 03360-26б, г).
Имеется в корпусе усть-цилемских записей и сюжет о невыполнении обета, в котором святой сам забирает полагавшееся ему (здесь, кстати, это снова молодой крупный рогатый скот): нетель, обещанная мужиком («чё ле случилось у его»), через три года исчезла с привязи в дороге:
«…овернулся, посмотрел — а нетели-то нету. <…> Святитель Микола подобрал. И следов нигде не могли найти. Куда ушла эта телица?‥ Это много таких случаев я слыхала» (СГУ: 03350-26а).
Подобный сюжетный мотив (Николай Чудотворец забирает обещанное ему) лег в основу местной повести конца XVIII в. «Чудо святого Николы, чудо еже о быке», выявленной В. И. Малышевым в составе усть-цилемского рукописного сборника середины XIX в. [Малышев: 476–480]. В сочинении передается история о том, как в праздник святого пророка Ильи на берегу Печоры явился «белый зело велик и красоты неизреченной бык», который был обещан торговцем скота из Великого Устюга в усть-цилемскую церковь явившемуся к нему святому Николе в ответ на мольбы о помощи в разрешении от бремени коровы. Родившийся бык был «зело велик и красен», так что устюжанин «нача жалети быка того и к тому худе печашесе о обещании святому Николе», тем более что «за дальностию расстояния сумнящеся, како доставити и в кое время теля оно». Но «святой Николай сам устрой», и, когда 7-летнего быка повели на торг (чтобы продать «за драгую цену» и часть денег послать в церковь), он исчез и «приведен бысть в село Усть-Цильму святым Николою» [Малышев: 479]. Пе-чорцы решили положить чудесного быка в церковь угодника Божия в осенний его праздник24.
Вероятно, обычай приношений в церковь Николая Чудотворца (по обетам или просто по случаю праздника в честь святителя) получил столь широкое распространение в старообрядческо-беспоповской Усть-Цильме и за ее пределами благодаря чудесной иконе этого святого — единственному предмету, уцелевшему в пожаре 1745 г., который уничтожил не только церковь, но и всю слободку. Источниками сведений о ней являются, главным образом, основанные на народных преданиях письменные сообщения, появлявшиеся в периодической печати с середины XIX в. и восходящие к местному церковному летописцу [Канева, 2017]. Мало того, что образ Николы-святителя избежал огня и явился на пне в отдалении от гари, он, возвращаемый на пепелище, еще дважды «уходил» на значительное удаление от реки и тем самым дал знак, где надлежит отстраиваться погорельцам. Этот знак окончательно был понят лишь спустя некоторое время, когда обрушился подмываемый Печорой берег, на котором была основана слободка. «С тех пор икона святого Николая-чудотворца, чудно явившаяся и указавшая новое место так кстати и к пользе, почитается чудотворною» [Ульяновский].
Устная традиция, очевидно, не сохранила памяти о пожаре в слободке и о чудесном «хождении» иконы — в исследуемом экспедиционном материале, собираемом на протяжении длительного времени, мы не встретили таких сюжетов. Однако имеются фрагментарные записи — упоминания о явлении иконы Николая Чудотворца на Старых Дворищах, месте первопоселения основателей Усть-Цильмы на противоположном (относительно современного расположения) низком берегу, оказавшемся непригодным для проживания из-за весеннего половодья. Одна из них сближается с письменными источниками мотивом нахождения иконы на пне:
«…Святого Николу на Старых Дворищах — Стары Дворища есть тут-ка пониже, на пню нашли икону, <…> на пню нашли, Никола-святитель. <…> Явлéнная, да, Никола-святитель. <…> Всё рассказывал отец-от мне тут» (СГУ: 0399-57).
Другой, менее внятный текст содержит намек на мотив перемещений иконы, а кроме того — неуверенное сообщение о явлении образа на воде:
«Кто ле всё говорили: Николу увезут, а он очудитсе тут, будто на Старых Дворищах да чё ле… <…> Там он появился будто, приплыл будто по Цильмы да» (СГУ: 03409-121).
Наконец, есть третий рассказ о явленном образе Чудотворца, в котором видим комбинацию некоторых уже знакомых по вышеприведенным примерам легендарных мотивов:
«Была икона, это… икона Никола каменный, каменный. И он появился на пню кому-то, на пёнышке нашли его. Дак вот она, женщина котора, хозяин, который принесли в дом, поставили у себя икону, дак она перешла ночью в другу половину, оказалась в другой половине. Значит, там не место ей было. <…> Явл е́ нный Никола ей звали нынче здесь у нас, явл е́ нный Никола» (СГУ: 03456-9).
Здесь нет указания на Старые Дворища, при этом явление на пне и перемещение иконы рассказчица относит к необычному образу — из камня. Каменная икона Николая Чудотворца — реально существующий памятник. В статье, посвященной его характеристике, историк Н. Н. Балина со своим соавтором также ссылается на устные сообщения: « По легенде , ее первое явление в 1540-х гг. произошло на месте первопо-селения и месте первой церкви Свт. Николая Чудотворца» [Балина, Балина: 165] (курсив наш. — Т. К .).
Усматривать ли за устными легендами существование в Усть-Цильме двух явленных Никол (возможно — деревянном, чудесно избежавшем пожара, и каменном) или речь в них идет об одной и той же каменной иконе, дважды чудесно явившейся устьцилёмам — вопрос неоднозначный. Однако для фольклористических исследований при всей своей фрагментарности зафиксированные тексты имеют особую ценность как обозначающие редкие мотивы, связанные с местной святыней. Безотносительно к тому, какой именно образ хранился в местных церквях Усть-Цильмы, он оставался высокочтимым, на что указывают многочисленные свидетельства исследователей, бытописателей, миссионеров. К уже процитированным ранее высказываниям В. Н. Латкина и А. Ульяновского приведем еще одно заверение: «Образ чудотворца Николая почитается всеми жителями Печорского края, и ни один промышленник, ни один торговец и ни один простой путник не пройдет мимо церкви без того, чтобы не поклониться иконе» [Майнов: 246].
Разумеется, почитались устьцилёмами и праздники, посвященные святителю, о чем уже немного сказано в связи с обетами. В полевых усть-цилемских записях выявлен текст, в котором неполно и не очень уверенно воспроизведена известная в русской традиции легенда «Касьян и Никола» [Афанасьев, 1859: № 11] о назначении Николаю Чудотворцу двух праздников в году — за помощь простому мужику, застрявшему с телегой, а Касьяну (рассказчица не смогла вспомнить его имени), погнушавшемуся грязной работой, — редкого дня почитания (29 февраля)25.
В народном усть-цилемском календаре особое место занимал весенний ( вёшный ) Никола. Этот день связан с важными для печорских крестьян сезонно-погодными приметами:
«Всё дожидают: Егорей с водой, дак и Микола с травой — что на Егорея река уйдет, дак на Миколу трава вырастет, надо скоту трава. <…> Егорей во льду, дак и Микола не в карбас у́ 26» (СГУ: 03276-25).
С Николы вёшного начинался цикл продолжавшихся до Петрова дня уличных хороводных гуляний, получивших на средней Печоре название «г о́ рка»; она, в свою очередь, выступала значимым фольклорно-игровым явлением усть-цилемской календарной и предбрачной обрядности.
Почитание Никольских праздников выражалось и в запрете на работу в эти дни. Они, как и некоторые другие даты народного календаря, считались опасными. Николин день (в разных сообщениях говорится то о весеннем, то об осеннем Николе) в Усть-Цильме называли при́ точливый, притчева́ -тый, притчевый, притчетый («каки ле притчи могут быть» (СГУ: 03291-29)), прикосливый, оветный, наказливый27. В экспедиционных материалах имеется довольно много текстов — поверий о существующих в традиции регламентациях и рассказов о личных историях, связанных с последствиями их нарушений. Наказание Николы, который «скор на помощь и на расправу» (СГУ: 03404-24), является ключевым мотивом таких сюжетов: Божий угодник карает увечьем и даже гибелью человека или его домашнюю скотину28.
Корпус усть-цилемских легенд о Николе Чудотворце дополняют два рассказа о его явлении во время болезни и во сне. В первом случае яркое видение в избушке на сенокосном угодье («Там вобще-то чёрно всё, и вот как будто в мраморе всё тут показалось: мушчина такой с бородой чёрной, красивый такой, сзади его как ангелы это на крылышках. Всё мра-морно, бело, тут как бассейн такой, зелёна вода») стало знаком выздоровления ( «И после того у меня всё прошло. И до сих пор. В больницу не хожу» (СГУ: 03259-39) ) . В другом рассказе увиденный во сне святой благословил визионера-рассказчицу на избрание председателем старообрядческой общины («.. .И вдруг, значит, раскрывается небо, и стоит передо мной Никола-святитель, большой такой, как икона, большой такой стоит Никола-святитель. <…> И через три дня <…> меня избрали <…> председателем этой общины. Дак вот говорят: это тебя Никола благословил, что он тебе показался этот Никола» (СГУ: 03171-4) ) . Обращает на себя внимание, что, в отличие от святого Николая — «белого дедушки», предупредившего о беде со скотом во хлеву ( см. выше: (СГУ: 03367-93) ) , или путеводителя — «седовласого старичка в белых одеяньях», (СГУ: 03408-75) чудотворец, явившийся с предзнаменованиями, предстает в величественном иконописном образе.
Таким образом, в устной народной традиции Усть-Цильмы создан многогранный образ Николая Чудотворца. Это единственный святой в данной локальной фольклорной традиции, образ которого удостоился столь глубокой разработки. На основе текстов-поверий, молитвенных обращений, рассказов о регламентациях и обычаях, легендарных нарративов (подавляющее большинство которых приближается к былич-кам — устным свидетельствам о встрече человека с проявлениями сверхъестественных сил, в данном случае — с силами святыми, чудесными) выстраивается обширный ряд функций Николы-святителя и сюжетных мотивов, организующих повествования о нем и его иконе, причем последние — с привязкой к местным реалиям. В связи с этим в качестве перспективной задачи представляется подготовка указателя основных мотивов усть-цилемских легенд о Николе Чудотворце с привлечением записей еще одного архива — кафедры фольклора МГУ им. М. В. Ломоносова (1978 и 1980 годы записи). Такой указатель позволит упорядочить довольно объемный и разнотемный материал, а затем провести системное сопоставление с подобными сюжетами, бытовавшими в других русских традициях.
Список сокращений
СГУ — Фольклорный архив Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, Усть-Цилемское собрание, аудиофонд.
СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры: в 2 т. / под ред. Л. А. Ивашко. СПб.: Филологич. ф-т СПбГУ, 2003. Т. 1. 553 с.
Список литературы Николай Чудотворец в устной традиции Усть-Цильмы
- Афанасьев А. В. Великопоженская икона: фотоальбом. М., 2018. 208 с.
- Афанасьев А. Н. Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым. Лондон, 1859. 206 с.
- Балина Н. Н., Балина С. В. Каменная икона «Святой Николай Чудотворец» из села Усть-Цильма // Почитание святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве: мат-лы и исслед. / под ред. А. В. Бугаевского. М.: М-Сканрус, 2007. С. 165–169.
- Белова О. В. Николай // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 398–401.
- Волкова Т. Ф. Житие святителя Николая и его чудеса в круге чтения печорских крестьян // Почитание святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, письменности и искусстве: мат-лы и исслед. / под ред. А. В. Бугаевского. М.: М-Сканрус, 2007. С. 48–52.
- Дронова Т. И. Религиозный канон и народные традиции староверов Усть-Цильмы: формирование, сохранение, эволюция. Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская типография», 2019. 280 с.
- Завьялова Е. Е. Образ Николая угодника в контексте феномена элитарности: агиографический и фольклорный дискурсы // Вопросы элитологии. 2020. Т. 1. № 2. С. 75–96.
- Ивашнева Л. Л. Нижневолжские легенды о Николае Чудотворце: к проблеме межжанровых влияний в фольклорной прозе // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2016. Том. 31. Вып. 1. С. 63–68.
- Ильина Ю. Н. «Боелись праздников беда стары люди»: этнолингвистическая характеристика календарных терминов (на материале печорских говоров) // Традиционная культура: научный альманах. 2016. Т. 17. № 1 (61). С. 67–74.
- Ильинский П. Поездка на Печору (из дневника епархиального миссионера) // Архангельские епархиальные ведомости. 1892. № 16. С. 300–307.
- Канева Т. С. Усть-цилемская «Повесть о быке» в контексте местнойфольклорной традиции // Чтения по истории и культуре древней и новой России: мат-лы конф. (г. Ярославль, 7–9 октября 1998 г.). Ярославль: Яросл. ист.-архитектур. музей-заповедник, 1998. С. 84–86.
- Канева Т. С. Усть-Цилемский церковный летописец: реконструкция текста и комментарии // Книжные центры Республики Коми: Усть-Цилемский район: сб. мат-лов и исслед. / отв. ред. Т. Ф. Волкова, Т. С. Канева. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. С. 188–202.
- Канева Т. С., Ильина Ю. Н. «Пословицы и поговорки» Марфы Ананьевны Дуркиной: устная народная словесность Усть-Цильмы в самозаписи ее носителя // Palaeoslavica: Международный журнал по исследованиям славянской средневековой литературы, истории, языку и этнологии. 2012. Вып. ХХ. № 2. С. 189–243.
- Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской Епархии. Архангельск, 1895. Вып. 2. 406 с.
- Майнов В. Н. Забытая река // Живописная Россия. 1881. Т. 1. Ч. 1. С. 245–248.
- Малышев В. И. Отчет о командировке в село Усть-Цильму Коми АССР // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 469–480.
- Образ святителя Николая Чудотворца в искусстве и культуре, преимущественно русской народной: мат-лы к библиографии / подгот. Н. Р. Тимонина // Традиционная культура: научный альманах. 2005. Т. 6. № 1 (17). С. 57–66.
- Ульяновский А. Село Усть-Цильма (Исторический очерк) // Архангельские губернские ведомости. 1868. № 26.
- Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 248 с.
- Фольклор Сосновского района Нижегородской области / сост. А. Н. Каракулов, И. А. Фалькова, К. Е. Корепова, Н. Б. Храмова, Ю. М. Шеваренкова; под общ. ред. К. Е. Кореповой. Н. Новгород: ООО «Растр-НН», 2012. 505 с.