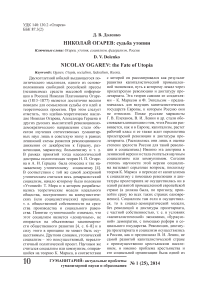Николай Огарев: судьба утопии
Автор: Доленко Дмитрий Владимирович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается судьба политических проектов Н. Огарева: социализма и федерализма. Обосновывается вывод, что эти проекты - утопия, которая осуществилась.
Огарев, утопия, социализм, федерализм, Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/14720795
IDR: 14720795 | УДК: 140:130.2
Текст статьи Николай Огарев: судьба утопии
Двухсотлетний юбилей выдающегося политического мыслителя, одного из основоположников свободной российской прессы (независимых средств массовой информации в России) Николая Платоновича Огарева (1813–1877) является достаточно веским поводом для осмысления судьбы его идей и теоретических проектов. При этом следует отметить, что идейно-теоретическое наследие Николая Огарева, Александра Герцена и других русских мыслителей революционнодемократического направления стало объектом изучения отечественных гуманитарных наук лишь в советскую эпоху в рамках ленинской схемы развития революционного движения от декабристов к Герцену, разночинцам, марксизму, большевизму и т. д. В рамках принятой тогда идеологической доктрины политическая теория Н. П. Огарева и А. И. Герцена была отнесена к так называемому утопическому социализму [4]. В соответствии с той же самой доктриной утопическим считался весь домарксистский социализм, начало которому было положено «Утопией» Т. Мора и в котором разрабатывались теоретические модели идеального общества, построенного на коммунистических (или социалистических) принципах, т. е. общественной собственности на средства производства и социального равенства. Понятие «утопический» означало, что этот социализм является «донаучным», не опирается на объективные закономерности общественного развития [4, c. 6–8] и в силу этого в принципе не может быть осуществимым. Другими словами, утопический социализм – это неосуществимый, нереалистичный политический проект. Научным же считался социализм или коммунизм, опиравшийся на теорию К. Маркса, в соответствии с которой он рассматривался как результат развития капиталистической промышленной экономики, путь к которому лежал через пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата. Эта теория самими ее создателями – К. Марксом и Ф. Энгельсом – предназначалась для ведущих капиталистических государств Европы, к которым Россию они не относили. Позже русские марксисты Г. В. Плеханов, В. И. Ленин и др. стали обосновывать концепцию о том, что в России развивается, как и в Европе, капитализм, растет рабочий класс и ее также ждет перспектива пролетарской революции и диктатуры пролетариата. (Расходились они лишь в оценке степени зрелости России для такой революции и социализма.) Именно эта доктрина в ленинской версии и стала считаться научным социализмом или коммунизмом. Сегодня степень научности этой версии социализма вызывает серьезные вопросы, поскольку теория К. Маркса о переходе от капитализма к социализму с помощью революции и диктатуры пролетариата не осуществилась ни в одной развитой промышленной европейской стране (а должна была, по прогнозу, произойти сразу во всех таких странах одновременно). Социализм там если и осуществился, то в социал-демократической модели, без революций и диктатуры пролетариата, с частной собственностью, т. е. в условиях «капиталистической» экономики, «буржуазной» демократии, с помощью реформ и социального государства. Революция, диктатура пролетариата и социализм осуществились в России, как и предполагал В. И. Ленин, не самой развитой капиталистической стране с преимущественно крестьянским населением, и именно проблема крестьянства и его социальной организации была одной из главных проблем в процессе создания этого социализма. (Более того, сам социализм просуществовал лишь чуть более семи десятилетий, а официальная теория о его перерастании в коммунизм, отмирании государства и т. д. оказалась во многом нереалистической, т. е. утопической. Все это дает основание для размышлений на тему о степени научности реализованной в СССР теории социализма.)
Что же касается Н. П. Огарева, А. И. Герцена и других близких к ним по политическим взглядам русских мыслителей, то и сегодня в мировой культуре понятие «утопия» продолжает ассоциироваться с ними и их идеями. Наглядным примером является пьеса выдающегося английского драматурга Тома Стоппарда «Берег Утопии» [3]. Если у его предшественника и тезки английского мыслителя ХVI в. Томаса Мора Утопия – несуществующий остров, на котором по-коммунистически живут вымышленные люди, то у Тома Стоппарда речь идет о вполне реальных людях – Бакунине, Герцене, Огареве, Чаадаеве и др., которые размышляют о судьбах России, разрабатывают для нее проекты усовершенствования, т. е., очевидно, утопии. Мы лишь можем предполагать какой смысл гениальный художник вкладывал в понятие «утопия». Вероятно, он понимал под ней то же самое, что Т. Мор, – несуществующее место с идеально общественным устройством, несбыточные мечты о таком устройстве. Об этом говорит финал пьесы, когда Герцен рассуждает о древней мечте, об идеальном обществе, о стране, которая не существует и потому называется Утопия [3, c. 412]. Однако по поводу смысла понятия «утопия» существует и более современный подход, который утвердился в науке благодаря К. Мангейму, противопоставлявшему утопию и идеологию. Согласно этому подходу идеология – это апология существующей реальности, отражающая интересы господствующих групп, а утопия – критика этой реальности, отражающая интересы самых обездоленных и угнетенных [1]. Наконец, для рассуждений о политических проектах Н. П. Огарева и их судьбы есть смысл вспомнить еще одно понятие – антиутопия, которое обычно связывают с другим гениальным произведением английской литературы – романом Джорджа Оруэлла «1984», описывающим вымышлен- ный английский социализм образца сталинской России. (Хотя к этому жанру можно отнести появившиеся значительно раньше произведения Е. Замятина, А. Платонова и Б. Пильняка.) Таким образом, по смыслу романа Оруэлла антиутопия – несуществующее антиидеальное, т. е. несвободное, порабощенное, несчастное общество.
Если с помощью вышеназванных категорий оценивать идейно-теоретическое наследие Н. П. Огарева, то с позиции дихотомии К. Мангейма его политические проекты, безусловно, представляют не идеологию (апологию существующего строя), а утопию – критику существующей в России ХIХ в. социально-политической реальности, отражающую интересы самого бесправного класса того времени – крестьянства. Однако, если же под утопией понимать теорию абсолютно нереалистичную, несбыточную, то вряд ли такое ее понимание применимо к огаревским проектам. В самом деле правомерно ли считать социализм Огарева и Герцена утопическим, т. е. ненаучным, не опирающимся на объективные закономерности общественного развития и потому несостоятельным, неосуществимым и не реализовавшимся на практике?
Для ответа на этот вопрос следует проследить реальную историческую судьбу ога-ревской социалистической утопии. Суть того социализма, в который верили Н. П. Огарев и А. И. Герцен, – это крестьянский общинный социализм, первичной ячейкой которого является самоуправляемая крестьянская община, а социально-экономической – общинное землевладение. Последнему придавалось особенно важное значение: «В форме общинного землевладения социализм становится на почву, потому что в наследственном землевладении почва для него невозможна», – писал Н. П. Огарев [4, с. 231].
В реальности же в результате масштабной индустриализации советский социализм воплотился в индустриальном и урбанизированном обществе, первичной ячейкой которого стало государственное промышленное предприятие, а главной социальноэкономической основой – государственная собственность на средства производства. Но в деревне, в сельском хозяйстве этот социализм был реализован в виде колхозного строя, где первичной ячейкой был колхоз (коллективное хозяйство) – своеобразная крестьянская община. Более того, именно колхоз – советская форма крестьянской общины – стал основой и источником индустриализации и индустриального общества. Таким образом, идея общинного крестьянского социализма для России оказалась отнюдь не утопической – она воплотилась в виде колхозного социализма. Утопизм этой концепции оказался в другом. Н. П. Огарев и А. И. Герцен считали, что существование общины обусловлено коллективистской психологией русского крестьянства, силой общинной традиции. «В России нельзя стереть форму общинного землевладения. Народ не уступит ее никакой силе…», – писал Н. П. Огарев [Цит. по: 4, с. 227]. Однако, как показала история, сила общинной традиции была явно переоценена. Это показала и Столыпинская реформа и в еще большей степени Октябрьская революция 1917 г., в результате которой крестьяне получили землю в единоличное пользование и весьма неохотно шли на различные формы коллективизации. Поголовная коллективизация в СССР осуществлялась с использованием принуждения и массовых репрессий, сопровождалась массовым сопротивлением крестьян. Так что, создание крестьянского социализма в России стало результатом не коллективистской психологии крестьян, а массированного государственного принуждения. Далее общинный социализм у Н. П. Огарева и А. И. Герцена предполагал освобождение крестьян от крепостной зависимости и должен был обеспечить подлинное крестьянское самоуправление. На деле же колхозный строй более чем на четверть века вновь закрепостил крестьян: лишь в период хрущевской оттепели крестьяне получили паспорта и тем самым возможность покидать колхозы.
Колхозное самоуправление также в основном носило формальный характер, поскольку главным механизмом в управлении здесь, как и и в обществе в целом, было партийное руководство, т. е. руководство, осуществляемое правящей коммунистической партией и ее органами. Колхозы, как и промышленные предприятия, должны были выполнять поставленные властью планы и продавать продукцию по установленным ей ценам, и долгое время были обречены на бедность. (Более того, создание колхозов сопровождалось таким массовым голодом и смертностью, которые невозможно было и представить во времена Н. П. Огарева). Таким образом, утопия крестьянского общинного социализма воплотилась в виде колхозного строя, но оказалась антиутопией.
Однако у огаревской утопии была еще одна составляющая – это федерализм – концепция преобразования России из империи в федерацию. Как известно, федерализм был довольно популярной доктриной в революционном движении России. Его включили в один из политических проектов (Никиты Муравьева) декабристы, с ними связывали решение так называемого славянского вопроса (А. И. Герцен) или создание безвластного, безгосударственного общества (М. А. Бакунин). Н. П. Огарев же видел в федерации территориальную организацию свободного общества: «Свободная Россия может быть только союзная Россия…» [2, с. 682]. Кроме того, он первый, и, вероятно, единственный русский мыслитель, который сформулировал проект федерации, основанный на двух принципах – экономикогеографическом и национальном, поскольку предлагал деление России на области «частью по географическим и промышленным условиям, частью по племенам» [2, с. 383]. Именно эта модель федерации нашла воплощение в современном устройстве России. Федеративная утопия Н. П. Огарева стала реальностью, причем с более счастливой судьбой, чем социализм.
При этом следует отметить, что Н. П. Огарев, вероятно, полагал, что социализм и федерализм осуществятся одновременно. Но реальная история оказалась сложнее, хотя формально так и было: именно в 1918 г. Россия была провозглашена и социалистической, и федеративной республикой. Однако, во-первых, Советская федерация с точки зрения ее конституционно-правовых основ строилась лишь по национальному принципу, она считалась чисто национальной федерацией. Области и края, т. е. экономикогеографические образования, были лишь административно-территориальными единицами, а не субъектами Федерации. Во- вторых, Советская федерация носила сугубо формально юридический характер, реально Советское государство было жестко централизованным и унитарным, главной несущей конструкцией которого была коммунистическая партия. Другими словами, Советская федерация отнюдь не стала территориальной формой свободной, демократической России. Лишь после распада СССР, в результате подписания Федеративного договора и принятия Конституции Российской Федерации в 1993 г., федеративная «утопия» Н. П. Огарева была реализована: Россия стала федерацией, включающей два типа субъектов: национальные и территориальные.
Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что утопия Н. П. Огарева, содержавшая радикальную критику социально-политической реальности и проекты ее переустройства, осуществилась, но судьба ее основных составляющих сложилась по-разному. Крестьянский общинный социализм стал реальностью, однако не так, как представлял себе Н. П. Огарев, не в силу общинных традиций и не как форма крестьянского самоуправления, а в результате государственного принуждения и насилия, а его создание сопровождалось беспрецедентными в российской истории страдания- ми российского крестьянства, которые ни Н. П. Огарев и А. И. Герцен или кто-либо из их современников не могли и предположить в проектах и размышлениях. Другими словами, утопия осуществилась, но оказалась ближе к антиутопии. Судьба этого крестьянского, колхозного социализма оказалась недолгой: его история закончилась вместе с эпохой советского социализма. Судьба другой огаревской утопии – федерализма складывается более счастливо. Она воплотилась в федеративном устройстве постсоциалистической – демократической России и не в результате государственного принуждения, а как и должно быть в идеале – в результате соглашения – Федеративного договора между государством и политико-территориальными единицами двух типов – экономико-географическими и национальными: между Российской Федерацией и республиками, автономными округами, автономными областями, краями, городами федерального значения (в полном соответствии с проектом Н. П. Огарева). Именно благодаря федерализму России удалось преодолеть кризис дезинтеграции, сохранить территориальную целостность и развиваться на протяжении более двух десятилетий.
Список литературы Николай Огарев: судьба утопии
- Мангейм К. Идеология и утопия/К. Мангейм//Утопия и утопическое мышление. -М., 1991. -С. 113-169
- Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения: в 2 т./Н. П. Огарев. -М.: Госполитиздат, 1952. -Т. 1. -863 с
- Стоппард Т. Берег утопии/Т. Стоппард. -М.: Астрель: CORPUS, 2010. -412 с
- Утопический социализм в России: хрестоматия -М.: Политиздат, 1985. -590 с