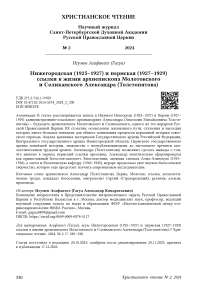Нижегородская (1925-1927) и пермская (1927-1929) ссылки в жизни архиепископа Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова)
Автор: Гагуа А.К.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Русская церковь в начале советской эпохи
Статья в выпуске: 2 (109), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается жизнь в Нижнем Новгороде (1925-1927) и Перми (1927- 1929) административно-ссыльного архимандрита Александра (Анатолия Михайловича Толстопятова) - будущего архиепископа Молотовского и Соликамского, одного из тех иерархов Русской Православной Церкви XX столетия, осмысление жизненного пути, служения и наследия которых имеет большое значение для общего понимания процессов церковной истории советского периода. Анализ архивных материалов Государственного архива Российской Федерации, Центрального государственного архива Нижегородской области, Пермского государственного архива новейшей истории, знакомство с неопубликованными до настоящего времени апологетическими трудами архиеп. Александра (Толстопятова) позволяют сделать выводы о том, что именно в период пермский ссылки преосвящ. Александр окончательно сформировался как православный богослов-апологет. Впоследствии, занимая сначала Алма-Атинскую (1933- 1936), а затем и Молотовскую кафедру (1943-1945), иерарх продолжал свое научно-богословское творчество, которое еще предстоит изучить современным исследователям.
Архиепископ александр (толстопятов), пермь, молотов, ссылка, апологетические труды, кандидат богословия, митрополит сергий (страгородский), религия, атеизм, проповедь
Короткий адрес: https://sciup.org/140306838
IDR: 140306838 | УДК: 271.2-726.1-9:929 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_2_330
Текст научной статьи Нижегородская (1925-1927) и пермская (1927-1929) ссылки в жизни архиепископа Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова)
Введение. Архиепископ Молотовский и Соликамский Александр (Толстопятов; 1878–1945) прошел очень сложный и тернистый жизненный путь, в котором было немало достижений. Став офицером Российского Императорского флота, он завершил военную службу в чине капитана второго ранга. На церковной ниве он достиг высоты архиерейского служения. Ему были присущи многочисленные таланты: ученого-богослова, инженера-механика, педагога и литератора-публициста. Сейчас, спустя более полувека после его кончины, начинают находить благодарных читателей его богословско-апологетические труды.
В жизни архиеп. Александра было немало тяжелых испытаний. В период Русско-японской войны 1904–1905 гг. он пережил заключение и плен в Японии. В советский период находился в заключении в Соловецком лагере, затем в Вишерских лагерях в г. Усолье, в Беломорбалтлаге и Ухтинлаге. В Перми — городе, где архиеп. Александр завершил свое архипастырское служение, он впервые появился в 1927 г. еще в сане архимандрита, отбывающим административную ссылку. Пермской ссылке 1927–1929 гг. предшествовала ссыльная жизнь в Нижнем Новгороде.
В Нижегородской ссылке. 18 июня 1925 г. иером. Александр (Толстопятов) покинул Соловецкий лагерь, где отбывал заключение в течение двух лет. Еще один оставшийся год был заменен двухлетней ссылкой. За ним был установлен жесткий контроль ОГПУ. В Нижнем Новгороде иером. Александр познакомился с будущим патриархом Московским и всея Руси, в то время митрополитом Сергием (Страгород-ским), который возвел его в сан архимандрита (см.: [Марченко, 2015, 43, 46]).
Органам ОГПУ ссыльный монах был крайне неугоден и подозрителен. Уже 16 марта 1926 г. Нижгуботдел ОГПУ писал про иером. Александра (Толстопятова), ставя ему в вину не только «агитацию против обновления» и то, что он на хорошем счету у митр. Сергия, но и скромность в поведении, и замкнутый образ жизни (естественный для административно-ссыльного). Это давало составителю документа основание считать, что «убрать» иером. Александра из Нижнего Новгорода и «перебросить» его в «другое место» необходимо (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 126).
Повод для этого найти было несложно. 5 ноября 1926 г. архим. Александр был арестован, причем с нарушениями даже тех упрощенных правил, которые существовали для ОГПУ в то время. Заместитель губернского прокурора Лямаев в письме в Нижгуб-отдел ОГПУ обращал внимание на то, что в постановлении о заключении священника под стражу отсутствует мотивировка ареста (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 146).
19 ноября 1926 г. Уполномоченный Нижгуботдела ОГПУ Воробьев оформил постановление о привлечении архим. Александра по ст. 69 Уголовного кодекса1 на основании того, что он во время совершения богослужений в Печерском монастыре в октябре 1926 г. произнес две проповеди, которые обвинители священника истолковывали как имеющие антиправительственный характер (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 10).
Виновным в предъявленном ему обвинении архим. Александр себя не признал (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 9 об.). На допросе 19 ноября 1926 г. он с иронией заявил, что ему хорошо известно про то, что содержание всех его проповедей фиксируется специально для этого в храме присутствующими людьми и передается в ГПУ, — разве он наивный ребенок, чтобы, зная это, говоря с амвона, допускать антисоветские высказывания? (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 9 об.).
В ходе следствия в ГПУ поступали анонимные письма. Например, в поступившем 20 ноября 1926 г. анонимном обращении говорилось, что архим. Александр нарушает советские законы, занимаясь религиозным просвещением несовершеннолетних детей. По заявлению автора анонимного обращения, священник проводил обучение «малолетних детей» у себя дома. Аноним заявлял, что считает «это не совсем правильным, т. к. мне думается, что данное „просвещение“ запрещено» (ЦГАНО. Ф 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 12).
В показаниях иеродиакона Печерского монастыря Тимофея также говорится о религиозном воспитании детей архим. Александром: он заявлял, что около года назад «случайно слыхал» от одной девочки, что о. Александр обучает «Закону Божию» ее и других детей. Иеродиакон утверждал, что священник проводил такое обучение не только у себя на дому, но и в домах «своих знакомых» (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 15).
Однако главной причиной очередного ареста ссыльного архимандрита стали его проповеди, произносимые за богослужением в Печерском монастыре.
24 ноября 1926 г. вызванный в качестве свидетеля иеродиакон Печерского монастыря Тимофей показал, что в октябре после одной из церковных служб, во время которой архим. Александром была произнесена проповедь, регент церкви Сатунин говорил ему по поводу этой проповеди о том, что священнику повезло, что в храме было немного народа: если бы людей было больше, то кто-то из них сообщил бы «куда следует» и о. Александра «потянули бы». На недоумение иеродиакона, что именно в проповеди могло быть воспринято как антисоветская пропаганда, регент пояснил, что слова о тучке, которая разлетится, — это намек про существующую власть (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 13, 14, 14 об.).
Интересны показания самого регента Александра Ивановича Сатунина. В них он сообщает, что время проповеди вместе с певчими использовал как перерыв, предназначенный для того, чтобы выйти из храма покурить. Когда он входил обратно после перекура, то услышал разговор среди прихожан про то, что «за эту проповедь Александру наверное попадет». Сам Сатунин проповедь не слышал, но из услышанного им обрывка разговора сделал для себя заключение, что «о чем-то нехорошем». Зайдя в храм, регент услышал слова «это облачко скоро разлетится». К чему они относились, он не понял, однако с учетом случайно услышанных слов прихожан решил, что речь идет о советской власти (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 16, 17).
Архимандрит Александр объяснял свои слова сотрудникам ГПУ следующим образом: слова «это облачко пройдет» он действительно сказал в одной из проповедей около месяца назад. Это цитата свт. Афанасия Великого, православного святого, жившего в IV в., который говорил так об арианах — еретиках, осужденных Первым Вселенским Собором. Проповедь архим. Александра была посвящена, в частности, неверию. В контексте этой темы он и процитировал свт. Афанасия — как «облачко» ариан прошло, так пройдет и «облачко» неверия. Священник утверждал, что к действующей власти его слова не имеют никакого отношения (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 7 об.).
Обвинительное заключение по делу архим. Александра было составлено уполномоченным Нижгуботдела ОГПУ Воробьевым уже 29 ноября 1926 г. В нем, в частности, говорилось о произнесении священником в октябре двух проповедей «ничем не прикрытого контрреволюционного содержания». По утверждению уполномоченного, «облачко, закрывшее солнце», которое вскоре разлетится, — намек на советскую власть, и именно так эти слова были восприняты находившимися в храме (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 18).
Замгубпрокурора Лямаев в своем заключении от 7 декабря 1926 г. по делу Ниж-губотдела ОГПУ по обвинению архим. Александра (Толстопятова) писал о том, что обвиняемый уже не раз был осужден к реальному лишению свободы. Первое дело — Петроградский процесс 1922 г., в ходе которого Анатолий Толстопятов, в то время священник, был осужден и отбывал два года тюремного заключения. Когда после освобождения о. Анатолий принял постриг в Александро-Невской лавре с именем Александр, то через несколько месяцев против него было возбуждено дело о неподчинении распоряжениям Советской власти, итогом которого стала ссылка в Соловецкий лагерь сроком на три года. Заместитель губернского прокурора утверждал, что в Нижнем Новгороде архим. Александр продолжает «противозаконные действия», при этом его деятельность выходит за стены Печерского монастыря, в котором он живет и служит. То, что активный в своей религиозной деятельности священник находится «на свободе и в промышленном центре», по мнению автора заключения, которое он подтверждал ссылкой на анонимку, «может вызвать недовольство рабочей массы» (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 19).
На основании этого заместитель губернского прокурора сделал вывод, что дело должно быть рассмотрено во внесудебном порядке в Особом совещании при Коллегии ОГПУ (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 19 об.).
Ссылка в Пермь. Заседание Особого совещания состоялось 28 января 1927 г. Было принято постановление о высылке архим. Александра (Толстопятова) на три года в Пермскую губернию (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 22). Так священник зимой 1927 г. впервые появился в Перми.
В марте 1928 г. в документах ОГПУ отмечалось, что архим. Александр (Толстопятов) получил возможность служить в Никольском храме, за короткое время приобрел авторитет у православных, воспринимавших его как гонимого за исповедание своей веры (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 25). Отмечалось также, что время в ссылке в Перми священник использует для знакомства с атеистической литературой, опровержение положений которой он предполагает включить в работу «против безбожников» (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 25).
В Перми за ним был установлен как официальный, так и негласный контроль. 13 июля 1928 г. агент «Знаток» докладывал в ОГПУ о мыслях архим. Александра в отношении будущего монастырей. По мнению агента, священник считал, что через несколько лет советская власть разрешит открытие небольшого количества православных обителей, насельниками которых станут «наиболее достойные и испытанные во всех отношениях». То, что до революции в монастырях было много «лишнего народа», привело к тому, что оказалась утрачена суть монастырской жизни, за монахов работали другие (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 195).
5 марта 1929 г. агент «Знаток» сообщал об архим. Александре, что он активно занимается научной работой. В то же время, соблюдая осторожность, в близкие отношения с епископом Пермским Павлином (Крошечкиным) не входит. Доверительные отношения ссыльный монах выстроил только с настоятелем Вознесенско-Феодосьевской церкви архим. Таврионом (Батозским) и монашествующими закрытых пермских монастырей. Отмечалась частая работа священника в краеведческой научной библиотеке в Пермском музее (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 215).
В заключении уполномоченного секретного отдела полномочного представительства ОГПУ по Уралу Розова от 15 декабря 1928 г. о рассмотрении дела об окончании ссылки административно ссыльного Толстопятова Анатолия Михайловича указывалось, что в период нахождения в пермской ссылке архим. Александр держал себя достаточно замкнуто, с местными священнослужителями общался мало. При этом отмечался его высокий авторитет среди верующих. Приводилось мнение о том, что священник — потенциальный кандидат на архиерейскую хиротонию, которая состоится «при первой же возможности». Также содержались сведения о намерениях о. Александра после окончания ссылки уехать в Ленинград, где у него жили брат и сестра (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 34, 34 об.).
Апологетические труды. Документы свидетельствуют, что в Перми в 1928 г. архим. Александр занимался подготовкой диссертации на соискание степени кандидата богословия на тему «Научное обоснование Библейского сказания о творении мира» (Александр Толстопятов, 1928).
В конце 1928 г. он писал в Ленинград монахине Серафиме (Голубевой) о том, что завершает свой научный труд, сетовал, что больших временных затрат требует его переписать для представления к защите. Просил ее содействия в подготовительных мероприятиях к будущей защите, связанных с получением определенных документов от священников — бывших преподавателей Петроградского богословского института, обучение в котором в то время священника Анатолия Толстопятова прервали арест и приговор по Петроградскому процессу 1922 г. (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 203).
В своей автобиографии, написанной в 1945 г., епископ Молотовский и Соликамский Александр описывал свой путь в богословских науках, обходя подробности, связанные с тем, что арест помешал ему завершить обучение в Петроградском богословском институте и представить к защите работу, а также с местом и обстоятельствами ее защиты. При этом в документе, предназначенном для Совета по делам Русской Православной Церкви, он подчеркивал: его работа доказывает, что между данными современных наук и Моисеевой космологией нет противоречий. Указывал, что его оппонентами были магистры богословия профессора-протоиереи Чепурин2 и Петровский3, а слушателями-судьями являлись покойные к этому времени патр. Сергий и архиеп. Питирим (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 2. Л. 3). Дата и место защиты иерарха, к сожалению, в документе не указаны, но так как один из названных оппонентов диссертации, проф.-прот. Александр Петровский, скончался в 1929 г. и имеется фотография 1930 г., где запечатлен архим. Александр со значком кандидата богословия (см.: [Марченко, 2015, 51]), можно предположить, что защита состоялась до 1930 г. после снятия с него статуса административно ссыльного.
29 марта 1929 г. дело архим. Александра в связи с сокращением срока на одну четверть было пересмотрено. При этом указывалось о лишении его права проживания в ряде больших городов, в том числе в Ленинграде, переехать куда он планировал (ЦГАНО. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38. Л. 23).
Пермский окружной отдел ОГПУ 25 апреля 1929 г. сообщал в ОГПУ по Уралу, что лишенный возможности уехать в Ленинград священник принял решение остаться в Перми (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 21, 21 об.).
Таким образом, в мае 1929 г. архим. Александр на недолгое время получил долгожданную свободу и смог выехать в Москву к митр. Нижегородскому Сергию (Страгородскому), который организовал и возглавил процедуру защиты его кандидатской диссертации.
Взаимодействие с митр. Сергием (Страгородским). Проживая в Перми и совершая богослужения в пермских храмах, архим. Александр постоянно по всем вопросам поддерживал связь с митр. Сергием (Страгородским) (см.: [Марченко, 2015, 64]). Однако его отношение к церковной политике Патриаршего местоблюстителя было неоднозначным и даже настороженным.
Представляют интерес показания в ОГПУ пенсионера Николая Георгиевича Аристова от 15 февраля 1931 г. об отношении архим. Александра (Толстопятова) к «Декларации» митр. Сергия 1927 г.: «По вопросу выпущенного митрополитом Сергием воззвания о признании Соввласти Толстопятов в религиозной среде распространял такой слух: „…человек с богословским образованием не мог бы по своей собственной инициативе выпустить такой циркуляр, где говорится о предмете чуждом церкви, и где на всех архиереев возлагаются обязанности полицейского характера. Здесь, несомненно, он действовал под давлением гражданской власти. Приходится удивляться, что митрополит Сергий усердствует перед Соввластью“» (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 231–231 об.).
Тем не менее архим. Александр (Толстопятов) всегда оставался верным «тихо-новцем» и духовным другом митр. Сергия. Став архиереем, он никогда не отрицал огромное влияние митр. Сергия на его жизненный путь, что отразилось в его воспоминаниях в книге «Патриарх Сергий и его духовное наследство» (Александр Толстопятов, 1947).
Жизненный путь до возвращения в Пермь. 18 апреля 1931 г. архим. Александра вновь арестовали. С ним по делу проходили прот. Виталий Мальгинов, служивший в Никольской церкви г. Перми, и прихожанка Н. Д. Рогачева. Все они обвинялись по ст. 58-10 УК РСФСР4 в том, что, используя православное вероучение как прикрытие, они занимались антисоветской агитацией: говорили о преимуществах капиталистической системы перед социалистической, утверждали об отсутствии заботы о людях в Советском Союзе, что «все лучшее» направляется за границу. В вину им ставились и «выступления против закрытия церквей» (ПГАНИ. Ф. 641–1. Оп. 1. Д. 8835. Л. 5).
По этому делу все трое были осуждены на трехлетнее заключение в лагере. Архимандрит Александр отбывал наказание в Вишерских лагерях. В середине мая 1931 г. его этапировали в г. Усолье. Затем перевели в Беломорбалтлаг.
После освобождения 21 августа 1933 г. архим. Александр был рукоположен во епископа Алма-Атинского. Хиротонию возглавил митр. Сергий (Страгородский) (см.: [Марченко, 2015, 80–81]).
Архипастырское служение еп. Александра на Алма-Атинской кафедре продолжалось всего три года. В августе 1936 г. еп. Александр вновь был арестован (см.: [Марченко, 2015, 82]).
Вернуться к архипастырскому служению ему удалось лишь на закате жизни, незадолго до кончины, и на этот раз в Перми: «7 сентября 1943 года состоялось его назначение епископом Молотовским» [Марченко, 2015, 87]. Назначение в Молотов (Пермь) не было случайным. Архипастырь был направлен патр. Сергием и Св. Синодом в тот епархиальный город, который он хорошо знал, с которым связывали его годы пермской ссылки. Здесь, понеся многие труды по возрождению Молотовской епархии и ее приходов, 26 сентября 1945 г. иерарх принял свою кончину и был погребен за алтарем Свято-Троицкого кафедрального собора.
Заключение. Проведенное исследование показывает, что нижегородская ссылка 1925–1927 гг. и пермская ссылка 1927–1929 гг. явились чрезвычайно важным этапом в жизни административно-ссыльного архим. Александра (Толстопятова).
Они стали временем его духовной и научно-богословской подготовки к архипастырскому служению и были сопряжены с написанием кандидатской диссертации апологетического содержания, с частым совершением богослужений в нижегородских и пермских храмах.
Фундаментально важным событием, изменившим жизнь архим. Александра, стало его знакомство и общение с митр. Сергием (Страгородским), который проявил внимание к деятельному и образованному священнику. Постоянная духовная связь ссыльного архим. Александра с митр. Сергием, выражавшаяся в постоянной переписке, сделала возможным его призвание к архиерейскому служению. Благодаря ходатайству митр. Сергия перед властями в 1933 г. архим. Александр получил свободу и был рукоположен во епископа Алма-Атинского.
В дальнейшем, в 1943 г., патр. Сергий (после очередного ареста и заключения своего друга и соратника еп. Александра) вновь призвал его к епископскому служению — на возобновленной Молотовской кафедре. До конца своей жизни владыка Александр плодотворно трудился на Молотовской кафедре, совмещая архипастырские труды с научными занятиями православной апологетикой. Духовное и научнобогословское наследие архиеп. Александра, его труды и наставления являются уникальным памятником эпохи антицерковных репрессий в СССР.
Список литературы Нижегородская (1925-1927) и пермская (1927-1929) ссылки в жизни архиепископа Молотовского и Соликамского Александра (Толстопятова)
- ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 2.
- ПГАНИ — Пермский государственный архив новейшей истории. Ф. 641-1. Оп. 1. Д. 8835.
- ЦГАНО — Центральный государственный архив Нижегородской области. Ф. 2209. Оп. 3а. Д. 38.
- УК РСФСР 1922 — Уголовный кодекс РСФСР 1922 года. Утратил силу с 1 января 1927 года в связи с принятием Уголовного Кодекса РСФСР 1926 года. URL: https://docs.cntd. ru/document/901757375 (дата обращения: 16.03.2024).
- УК РСФСР 1926 — Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года. Утратил силу с 1 января 1961 года в связи с принятием Уголовного Кодекса РСФСР 1961 года. URL: https:// docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения: 18.03.2024).
- Александр Толстопятов (1928) — Александр (Толстопятое), архим. Научное обоснование Библейского сказания о творении мира. Пермь, 1928. Рукопись. 520 с.
- Александр Толстопятов (1945) — Александр (Толстопятов), архиеп. Щит веры. Молотов, 1945. Машинопись. 400 с.
- Александр Толстопятов (1947) — Александр (Толстопятов), еп. В Бозе почивший Патриарх Сергий // Патриарх Сергий и его духовное наследство. Изд-е Московской Патриархии, 1947. С. 223-230.
- Марченко (2015) — Марченко А., прот. Архиепископ Александр (Толстопятов). Защитник Отечества и православной веры. Нижний Новгород, 2015. 176 с.
- Петровский — Петровский Александр Васильевич // Духовенство Русской Православной Церкви в XX веке. URL: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/12278/ (дата обращения 31.03.2024).
- Чепурин — Чепурин Николай Викторович // Открытая православная энциклопедия «Древо». URL: https://drevo-info.ru/articles/16407.html (дата обращения 31.03.2024).