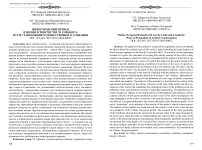Нижегородский период в жизни и творчестве М. Горького: пути становления художественного сознания
Автор: Захарова Виктория Трофимовна, Уртминцева Марина Генриховна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи - изложение аргументов и обоснование тезиса о синтетическом типе художественного мышления писателя, основные черты которого проявились уже в конце 90-х - начале 900-х годов. Новизна предпринятого исследования - доказательство актуальности пересмотра сложившейся концепции раннего творчества писателя, согласно которой его произведения исключаются из анализа явлений Серебряного века. Определяя вектор исследования, авторы статьи обратились к эпистолярию и фельетону, ставя перед собой задачу проследить, как в способах речевого выражения в этих мыслеформах проявились черты неореалистического типа художественного мышления Горького. Включе- ние материала переписки, где эстетическое кредо Горького облечено в форму диалога с адресатом, позволило установить, что в терминах, уточняющих определение реализма: «вещественный» реализм, «одухотворенный», «возвышенный до символа», было дано определение нового типа художественного сознания, впоследствии названного неореалистическим. Анализ эпистолярия вписан в контекст обобщенной характеристики оценок литературной критикой начала ХХ в. первых двух томов его рассказов, что устанавливает онтологический статус поставленной проблемы - определение основных черт индивидуального почерка Горького-художника. Феномен Горького стал стимулом совершенствования философско-эстетической деятельности. Литературная критика рассматриваемого периода обозначила главный вектор его внутреннего развития: глубинную сопряженность творчества писателя с национальной классикой, с традициями устного народного творчества, европейской философией и культурой, обозначив в качестве доминирующего качества его прозы «символизм» как показатель новизны художественного сознания автора. Чертами неореализма отмечено не только художественное творчество писателя, но и его публицистика нижегородского периода. Исследование стилевого своеобразия фельетонов показало, что обновление прозаического письма в ограниченном рамками жанра пространстве идет по пути осмысления конкретного факта в масштабе общенационального бытия - с указанием на онтологически- и аксиологически значимые константы духовной жизни народа. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что основные эстетические принципы неореализма, обозначенные в переписке Горького, были позднее отмечены литературной критикой в его художественных текстах, нашли воплощение в его публицистике нижегородского периода.
М. горький, художественное сознание, неореализм, переписка, публицистика, литературная критика
Короткий адрес: https://sciup.org/14914701
IDR: 14914701 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00022
Текст научной статьи Нижегородский период в жизни и творчестве М. Горького: пути становления художественного сознания
М. Горький уже в самом начале XX столетия занял одно из ведущих мест в литературном движении эпохи, однако не подлежит сомнению, что особую роль в формировании писателя сыграл нижегородский период его жизни со второй половины 1890-х до начала 1900-х гг.
Целью данной статьи является исследование этого этапа становления художественного сознания М. Горького на материале его эпистолярного наследия, фельетонов писателя, опубликованных им в нижегородской прессе в период работы корреспондентом на Всероссийской выставке 1896 г, а также анализа оценок литературной критикой начала XX в. первых двух томов его рассказов, опубликованных отдельным изданием в нижегородский период. В новых исторических условиях, в начале XXI в. стоит вернуться к вопросу о том, в чем же собственно заключается феномен Горького-художника.
С точки зрения современных представлений о процессе становления художественного сознания эпохи одним из наиболее значимых фактов, свидетельствующих о направленности формирования его мировоззрения, является эпистолярий писателя, в котором эстетическое кредо Горького облечено в форму диалога с адресатом. Предваряя наши размышления о конкретных эпистолярных фактах, заметим: Горький обладал необыкновенной интуицией относительно вектора развития русского реализма, проложенного Чеховым. В своем первом письме к Чехову из Нижнего в 1898 г. Горький трогательно и наивно объясняется Чехову «в искреннейшей горячей любви», признается, «сколько дивных минут» прожил он над его книгами и выражает восторженные пожелания: «Дай боже жизни Вам во славу русской литературы, дай боже Вам здоровья и терпения - бодрости духа дай вам боже!» [Письмо А.П. Чехову, октябрь или начало ноября 1898 г. М. Горький и А. Чехов... 1951, 23]. Несколькими годами позднее он точно и образно формулирует суть чеховского революционного новаторства в прозе, столь притягательного для него: «Вы убиваете реализм <...> после самого незначительного вашего рассказа - все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом» [Письмо А.П. Чехову от января 1900 г. М. Горький и А. Чехов... 1951, 61]. Напомним, что ранее, в связи с чеховскими пьесами, писал о том, что Чехов создает «одухотворенный реализм, возвышенный до символа» [Письмо А.П. Чехову от декабря 1898 г. М. Горький и А. Чехов... 1951, 28].
Именно эта способность художника - сотворить из привычного «вещественного» реализма «одухотворенный», «возвышенный до символа» - и стала определяющей для оформлявшегося в те годы нового облика реализма - неореализма, типа художественного сознания, ставшего характерным для самых выдающихся мастеров прозы XX в. - Ив. Бунина, Ив. Шмелева, Б. Зайцева, самого Горького и ряда других писателей в 1910-е гг. Неореализм как тип художественного сознания, способный реалистически-полнокровно и вместе с тем символически-многогранно, онтологически-емко отразить жизнь, оказался присущим талантливым прозаикам и русского Зарубежья, и русской литературы советской эпохи. А у истоков его фор- мирования, как это со всей очевидностью понятно сегодня, стоял Чехов и ранее других уловивший направленность его новаций Горький.
В связи с этим необходимо вспомнить также оценку Горьким рассказов Чехова «Мужики» и «В овраге». Когда многие, в том числе и Л. Толстой, упрекали Чехова в пессимизме, Горький писал в «Нижегородском листке», что Чехов изображает жизнь, «весь ее хаос с высшей точки зрения. И хотя эта точка зрения неуловима, не поддается определению - может быть, потому, что высока, - но она всегда чувствовалась в его рассказах и все ярче пробивается в них» («По поводу нового рассказа А.П. Чехова “В овраге”») [Цит. по: Чехов 1974-1983, X, 443]. Интуитивно молодой Горький почувствовал, что высота чеховского взгляда на жизнь - это высота религиозного взгляда. Позднее со всей определенностью это выразил Б. Зайцев, писавший о повести «Мужики»: «Поразительность повести состоит в соединении грубости, ужаса даже, с чувствами светлыми и высокими. Чувства эти соединены с религией. Вернее даже, ею и рождены» [Зайцев 1991, 367]. В связи же с повестью «В овраге» и молодой Горький писал об удивительной силе воздействия этой повести именно благодаря ее христианской светоносное™.
Из Мануйловки Полтавской губернии Горький писал автору: «Читал я мужикам «В овраге». Если бы Вы видели, как хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними... Липа понравилась, старик, который говорит “Велика матушка Россия”. Да, славно вышло, должен я сказать, всех простили мужики - и старого Цыбукина, и Аксинью - всех!» [Письмо А.П. Чехову от 5 июля 1900 г. М. Горький и А. Чехов... 1951, 51].
Полагаем это письмо весьма симптоматичным прежде всего потому, что здесь коренится представление именно об одухотворенности реализма чеховского типа (к сожалению, и в начале века, и позднее, с неореализмом стали связывать одну из приведенных Горьким характеристик, - да и то не в связи с его приоритетным определением, - связь реализма с символизацией прозы). Между тем, очевидно, насколько глубоко и тонко оценил Горький христианскую составляющую этих чеховских шедевров, предваряя блестящий анализ этих вещей, сделанный в эмиграции Б. Зайцевым в книге «Чехов». Именно христианское милосердие, свет евангельский, идущий от этой прозы, почувствовали слушатели рассказа, полтавские мужики, и - сам чтец, растроганный молодой писатель Максим Горький.
Известно, сколь противоречивым было отношение Горького к религии и в те годы, и позднее. Но именно - противоречивым, а не сплошь отрицательным, как это иногда хотят представить сегодня. Но мы не намерены касаться здесь этой темы, представляющейся самодостаточной для рассмотрения.
Молодые писатели-«знаниевцы», объединенные М. Горьким в 1900-е гг, как хорошо известно, стали цветом русской литературы XX в., ее классикой: это Ив. Бунин, Л. Андреев, А. Куприн, прежде всего. Именно они явили в своем творчестве новое представление о возможностях реализма в новую эпоху, - дав новую жизнь традиционным жанрам, - особен- но переосмыслив возможности рассказа; их путь тоже находился в русле открытий чеховского реализма: малая форма оказывалась семантически насыщенной, онтологически укрупненной. В письмах Горького 1900-х гг. не раз встречаются его откровенно-радостные оценки успехов своих сотоварищей, идущих по этому пути.
Так, с первых шагов в литературе он навсегда высоко оценил талант Ив. Бунина, - причем, и как прозаика, и как поэта. Уже в 1901 г. он писал из Нижнего В. Брюсову: «С благодарностью извещаю, что получил прекрасную книжку стихов Бунина, коего считаю первым поэтом наших дней» [Письмо В. Брюсову от 5 февраля 1901 г. Горький 1997, II, 108]. В поэтической оценке-впечатлении сборника «Листопад» выделим главное для нас: «Хорошо! Какое-то матовое серебро, мягкое и теплое, льется со страниц этой простой, изящной книги <...> Люблю я ... отдыхать душою на том красивом, в которое вложено вечное» [Письмо И. Бунину около 14 февраля 1901 г. Горький 1997, II, 109]. (Курсив мой. -В.З.). Здесь важна эта соотнесенность в восприятии Горького бунинской лирики с вечными прекрасными началами русской жизни, - ведь бунинская «пейзажная лирика» никогда такому определению не соответствовала вследствие своей метафизичности, и Горький это понял раньше других. (Да, Горький в те годы очень хотел видеть в литературе «приятное ему возмущение жизнью», - об отсутствии которого у Бунина он сожалеет в этом письме, - но, как видим, несмотря на это, его художественная интуиция не могла и недооценить того, что окажется главным в художественном сознании Бунина: глубокую соотнесенность сиюминутного и вечного в прекрасных проявлениях жизни).
В высочайшей оценке, которую, как известно, получили у Горького «Антоновские яблоки», обнаруживается приверженность Горького-читателя, критика к прозе нового типа: ведь «Антоновские яблоки» стали новым словом в лироэпике малой прозы. М. Горький пишет Бунину в 1900 г: «А еще большое спасибо за “Яблоки”. Это - хорошо. Тут Иван Бунин как молодой бог спел. Красиво, сочно, задушевно. Нет, хорошо, когда природа создает человека дворянином, хорошо!» [Письмо И. Бунину от 25 ноября 1900 г. Горький 1997, II, 72]. Показательно, что и в последующие годы Горький был очень внимателен к его художественным новациям. «По-прежнему увлекаюсь “Деревней” Бунина», - признавался Горький в письме к М. Коцюбинскому [Письмо М. Коцюбинскому от 8(21) ноября 1910 г. Горький 2001, VIII, 182]. А самому Бунину Горький писал, восхищаясь концентрированностью бунинского стиля, его метафоричностью, укорененностью в древнейших пластах мифопоэтической художественности: «Превосходна смерть нищего, у нас бледнеют и ревут, читая ее. Дивная черта - “тень язычника”! Вы, может быть, и сами не знаете, как это глубоко и верно сказано. “Поезд стал позднее приходить”, - оттого, что день короче - ведь это образец мышления славян десятого века. И - верно! Воистину ужасно верно...» [Письмо И. Бунину от 23 ноября (6 декабря) 1910 г. Горький 2001, VIII, 2001, 196].
В 1912 г. в письме к В.И. Качалову Горький говорил о Бунине: «Знаете - он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности - здесь не будет преувеличения» [Письмо В.И. Качалову от 14 марта 1912 г. Горький 2002, IX, 272]. Здесь важно подчеркнуть, что «стилист» в понимании Горького означало не просто высокую оценку художественности прозы Бунина, а именно особое ее качество, свидетельствовавшее о богатой концентрации семантики при филигранном мастерстве в создании лаконичной смыслоемкой формы.
В письме к молодому писателю Д. Семеновскому Горький писал: «... если Вы пойдете за Клычковыми, - Вы не будете поэтом.
Чтоб понять, что такое Клычковы, какие они еще мальчики, сравните их стихи со стихами хотя бы Бунина, взяв его последнюю книгу “Иоанн Рыдалец”; посмотрите, какая строгость, серьезность, какая экономия слова и любовь к нему. Вообще же учиться нужно по Пушкину, а от того, кто скажет Вам, что Пушкин устарел, - идите прочь!» [Письмо Д. Семеновскому между 7 августа и 28 сентября 1913 г. Горький 1949, XXIX, 315]. Заметим, что собственно «Иоанн Рыдалец» - это рассказ, а не стихотворение, и в оценке Горького органически соединилось его представление о силе и бунинский поэзии, и бунинской прозы.
Не случайно здесь у Горького соединение этих двух имен - Бунина и Пушкина. С одной стороны, это высочайшая оценка Бунина, а с другой -своеобразное маркирование направленности движения писателя XX в. по пути традиции национального гения, - что нельзя недооценивать. К тому же, такие сопоставления в письмах Горького не единичны.
Приведенные выше примеры суждений Горького из писем 1910-х гг. доказывают, насколько уверенно шел Горький по пути формирования представлений о новом облике реализма, активно складывающихся у него уже в нижегородский период.
Если учесть, что Горький призывал молодых писателей ценить простоту стиля Пушкина и Бунина: «Красота в простоте - это аксиома» [Письмо Д. Семеновскому от 13 мая 1913 г. Горький 1949, XXIX, 304] - то вновь утверждаешься в мысли, что так важно было Горькому укрепить в сознании начинающих авторов. Лаконизм формы при величайшей ее смысло-емкости - вот, по Горькому, - величайшее свидетельство мастерства подлинных художников слова.
Несомненно, обращение к эпистолярному наследию писателя убеждает в значении взглядов молодого Горького на направленность художественных исканий в русской прозе начала XX в., - важного для уточнения современных представлений о процессе формирования художественного сознания ушедшего столетия.
Художественное творчество самого М. Горького в те годы неуклонно следовало именно по такому - неореалистическому - пути обновления прозаического письма, которому на лаконичном пространстве небольшого рассказа или повести оказывается возможным «охватить» русскую жизнь в масштабе общенационального бытия - с «оглядкой» на древние истори- ческие истоки, с указанием на онтологически- и аксиологически значимые константы духовной жизни народа. Эта внутренняя потребность Горького осмыслить сиюминутное в масштабах национального характера сказывается и в таких формах творчества, как фельетон или очерк, посвященный событиям дня.
Так, в фельетоне из цикла «Беглые заметки» [Горький 1896 Ь] Горький описывает свои впечатления от посещения художественного отдела Выставки, однако цель автора гораздо более значительна - дать обзор состояния современного искусства живописи, как русского, так и западно-европейского. Беглый очерк картин, привлекших внимание фельетониста, и их краткая характеристика свидетельствуют об особенностях эстетических воззрений автора этого периода, показывают его отношение к проблемам искусства. Стилевое своеобразие высказывания, объединяющее абзацы повествовательного плана, органично соединяется с эмоционально окрашенными негативными суждениями. Определяющим структуру и смысл фельетона оказывается характеристика автором впечатления, рожденного восприятием картин современных художников, а пафосом - характеристика техники импрессионализма (выражение Горького) и импрессионистов. В их творчестве, как отмечает фельетонист, преобладает выражение настроения («кисть - груба, работа небрежна, красные блики на снегу, быть может, слишком ярки» - картина «У костра», «Утро в шхерах» Мунстер-гельма - так печально и уныло», господин Беркос «положил на полотно ГРУДУ разноцветных камней. Это вышло очень тяжело <...> в целом картина Беркоса напоминает так называемый “мраморный кисель”», «там какой-то импрессионист повесил на небо медный поднос вместо луны...» [Горький 1896 Ь, 3]. Однако наиболее серьезной критике фельетониста подверглась картина А. Галлена «Conceptioartis», которую Горький назвал «гвоздем» отдела, вызывающим всеобщее любопытство, «высшей мудростью, до которой мог дойти немудрый символист. Странное, грустное впечатление производит эта картина заблуждения человеческого ума» [Горький 1896 Ь, 3]. Несмотря на то, что в целом полотно А. Галлена, как и других представителей новой волны в живописи, было подвергнуто критике, заметим, что Горький отмечает формирование иной, по сравнению с традиционной (недаром он справедливо указывает на «преобладание пейзажа над жанром»), манеры классической живописи: ориентацию художников на преодоление жанрового мышления, выразившегося в стремлении визуализировать образ-переживание, характерный для авторской индивидуальности. Отказ от постижения мира разумом («заблуждения человеческого ума») воспринимается молодым писателем как трагическая ошибка, что вполне соответствует его теоретико-философской позиции тех лет, однако это не мешает ему признать, что в области литературы «убийство» реализма Чеховым вполне естественно и эстетически оправдано. Однако для понимания пластических, визуальных искусств, по мнению Горького, нужен зритель эстетически более развитый, которому еще предстоит привить культуру их восприятия. Важно отметить, что в опубликованном двумя днями раньше материале (2 июня, № 150) Горький вскользь касается проблемы, обсуждению которой посвящен критический обзор картин, представленных вниманию публики. Рассказывая о невостребованности справочного бюро и читальни, работающей на выставке, автор констатирует: публика «смотрит на разные вещи, но знать, из чего, как и даже зачем они делаются не находит нужды. Это специфически русское познавание -познавание глазами без участия головы» [Горький 1896 Ь, 3]. Этот саркастический выпад автора следует рассматривать не только как обвинение русского человека в отсутствии интереса ко всему новому, а как еще один факт чуждости народу самой идеи выставки, где потерялся творец всех ее богатств.
Этой проблеме автор посвящает фельетон «Артист», опубликованный в следующем номере газеты [Горький 1896 а, 3]. В публицистике писателя тех лет, особенно в корреспонденциях с Всероссийской выставки, ощутимо проявляется своеобразие его публицистического стиля, для которого характерна яркая метафоричность, панорамность пейзажных зарисовок, символическая интерпретация бытового явления, обусловленного чертами неореалистического типа художественного мышления.
Сюжетная ситуация, определившая структуру повествования в фельетоне «Артист», мотивирована разнообразными по содержанию и эмоциональному тону впечатлениями, которые фиксирует наблюдатель. По своему содержанию это картинка «с натуры», в которой перед читателем предстает рабочая артель во время краткого отдыха. Неподвижность уставших людей («...разговор не клеится, большинство полудремлет, забросив руки за голову...» [Горький 1896 а, 3]), расположившихся у железнодорожной насыпи в ожидании вагонов для разгрузки, резко контрастирует с обширным пространством ярмарки, полной движения и суеты: «...издали доносятся бойкие звуки бравурной музыки, глухой шум голосов, шипенье струй фонтана, с другой стороны от них с грохотом и пронзительным свистом носятся взад и вперед паровозы...» [Горький 1896 а, 3]. Отметим, что образ пространства в фельетоне создан за счет разнообразной звуковой картины, передан не только пластикой описания. Изображая статичность фигур людей, расположившихся на отдых, автор делает акцент на фиксации общего настроения группы, несколько раз повторяя слово скука. В контексте изображенного оно приобретает символический смысл: это знак не равнодушия, а ясно осознаваемое рабочим людом чувство враждебности им атмосферы, которая царит на выставке. Первый тематический блок фельетона (статичный) завершается вступлением в разговор «пожилого мужичка с лысиной и лицом суздальского типа», наставительно замечающего: «Веселятся люди... которые имеют время на этот предмет» [Горький 1896 а, 3]. Так имплицитно в бытовой зарисовке обнаруживается скрытый философский план, обозначенный портретом-умолчанием, отсылкой читателя к типу «лица суздальского типа». «Лицо суздальского типа» впервые появилось в росписях большого северного придела Дмитриевского собора (1195) во Владимире. Изображенные здесь лица святых открыты миру и непосредственны, овал лица потерял преувеличенную тонкость и изящество греческого письма и приобрел земной, округлый и массивный характер, что впоследствии дало основание интерпретировать эти изменения как весьма распространенную попытку русских учеников греческих мастеров внести национальный колорит в изображение библейских сюжетов [Лазарев 2000, 87-102]. Нельзя со всей определенностью утверждать, что именно этот ассоциативный фон формирует подтекст, однако этот образ, восходящий ко времени становления христианства на Руси, делается символом негативной оценки обустроенного на заграничный манер масштабного торжища с национальной точки зрения. Развитие мотива «чуждости» ярмарки простому народу получает дальнейшее развитие в импрессионистически окрашенной паузе повествования, переключающей сюжет в план описания состояния природы, который эмоционально готовит переход ко второй части фельетона - изображению музыкального фрагмента. В наступившей паузе разговора «солнце то прячется в облако, то снова выглядывает, и рабочих то и дело одевает тень» [Горький 1896 а, 3]. Задорный звук несущейся со стороны ярмарки музыки заглушает грохот паровозов, метонимически воплощая тему скуки, овладевшей рабочими, то высвечивая, то пряча от рассказчика их лица. Скука покидает людей после выступления Артиста, кузнеца Мирона, голосом, мимикой, жестом создавшего образ работающей кузницы, музыку труда, понятную и близкую сердцу рабочего человека. Мастерство звукоподражания «артиста» Мирона -символ безграничных возможностей человека труда, сумевшего воссоздать грохот и шипенье металла, «материализовать» искры огня летящими из сжатого кулака песчаными струями... Перед нами олицетворение почти безграничных возможностей одного человека, творческая способность которого сопоставима с энергией деятельности всей ярмарки.
Для создания еще более убедительной картины формирования художественного самосознания писателя обратимся к проблеме восприятия его творчества литературной критикой рубежа XIX-XX вв., для которой сам феномен Горького стал стимулом совершенствования философско-эстетической восприимчивости.
Общеизвестен необычайный интерес к творчеству М. Горького с самого начала его творческой деятельности. А выход в 1898 г. первого двухтомного собрания его очерков и рассказов особенно активизировал критику. Уже в 1901 г. С. Гринберг издал в Петербурге отдельным томом сборник «Критические статьи о произведениях Максима Горького», куда вошли работы многих литературных критиков, - как авторитетных, так и малоизвестных - Михайловского, Скабичевского, Минского, Поссе, Оболенского, Меншикова, Игнатова и др., - ранее опубликованных в периодике.
Следует сразу же заметить, что основной тон опубликованных в сборнике 1901 г. «Критические статьи о произведениях Максима Горького» материалов был связан с несомненным признанием незаурядности личности и творчества молодого писателя. В заглавной статье сборника, подписанной инициалами С.М., говорилось о Горьком: «...он обладает громадным художественным талантом, глубоким художественным чувством, которое производит сильное влияние на каждого читателя» [С.М. 1901, XVI]. (Курсив автора).
Понятно, что в первую очередь внимание критики было привлечено к теме босячества. Оставив «за скобками» нашего материала ставшие привычными клише типа «певец протестующей тоски», обратим внимание на замечательное стремление некоторых критиков ввести эту тему у Горького в традицию русской классики. И здесь мы находим небезынтересные сопоставления. Так, предлагалось «босяцкие» рассказы Горького, вроде «Коновалова», сопоставлять «не со слащавыми «народными» повестями Григоровича, даже не с народными очерками интеллигентов Успенского и Зла-товратского, а с “барскими” произведениями Гоголя, Тургенева и Щедрина», ибо творческий талант Горького, - это выводы В. Поссе, - «призван открывать общечеловеческие стремления и настроения в низших, обездоленных народных слоях, как это сделали художественные таланты Гоголя, Тургенева, Толстого и Щедрина в родственной им привилегированной среде. Но как эти великие дворянские и буржуазные писатели стремились подчинить своему художественному творчеству не только буржуазно-дворянскую, но и крестьянско-рабочую среду, так и Горький пытается охватить своим пролетарским сознанием по возможности все общественные слои» [Поссе 1901, 4-5]. Заметим, что на языке литературной критики тех лет понятие «пролетариат» не имело еще того социального статуса, какой появился позднее: тогда чаще речь шла о русском «бродячем пролетариате», и представления о «пролетарии» и «босяке» синонимизировались. Трудно переоценить значение такой позиции: важно, что В. Поссе уже по первым художественным опытам Горького определил меру и свойство его таланта именно в типологическом соотнесении с художественным сознанием русских классиков.
В ином типологическом родстве с героями русской классики увидел горьковских босяков А. Скабичевский. Развернув ретроспективу исторического типа бродяги в русскую древность, Скабичевский отстаивает верность Горького «тому исконному народному идеалу, который одинаково присущ и творениям безличного народного творчества, каковы: былины, сказки, разбойничьи песни, и классическим произведениям первостепенных русских писателей истекающего столетия: Пушкина, Лермонтова, Тургенева и пр.» [Скабичевский 1901, 115].
Приведенные выше примеры убеждают в том, что сам факт такого обширного охвата литературной традиции в ее высших образцах и только применительно к одному тематическому пласту ранней прозы Горького свидетельствовал о мощном даровании молодого автора. Литературная критика провиденциально обозначила еще в самом начале пути писателя главный вектор его внутреннего развития: глубинную сопряженность его творчества с национальной художественной традицией.
На фоне экзотических героев «босяцкого цикла» благосклонно были восприняты очерки и рассказы о реальной жизни с реальными героями.
При этом чуткий «слух» талантливой критики уловил в них самые разнообразные черты художественного дарования писателя. Так, Н. Михайловский выделил «Ярмарку в Голтве» - «маленький очерк, написанный без претензий на какую-нибудь глубину или “проникновение”, безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором», рассказ «Скуки ради», названный критиком серьезным и значительным по замыслу и «истинно превосходным по исполнению» [Михайловский 1901, 105].
А. Скабичевский дал высокую оценку рассказу «Варенька Олесова», заметив, что, «как и все очень талантливое, этот рассказ г. Горького поражает вас своею жизненностью, свежестью и, если хотите, своего рода новизною» [Скабичевский 1901, 116]. Последняя увидена в смелом отступлении Горького от «беллетристической рутины», которая проявлялась в той привычке читателя, чтобы «свободомыслящие писатели выводили прогрессивных и передовых героев - одаренными непременно самою высокопробною нравственностью и, наоборот, людей ретроградного образа мыслей наделяли всеми семью смертными пороками» [Скабичевский 1901, 116]. У Горького же, по верному наблюдению критика, «представляется та ирония и игра жизни, в силу которой очень часто под блестящей прогрессивной внешностью таится полное нравственное растление и, наоборот, жалкая неразвитость и темное невежество скрывают в себе драгоценные перлы обновления человечества. Сюжет рассказа г. Горького весь построен на подобном quiproquo» [Скабичевский 1901, 117].
Но особенного внимания Скабичевского удостоился рассказ «Кирилка». В этой незамысловатой сценке критик увидел «глубокий символический смысл», поспешив успокоить читателя: «Но не подумайте, чтобы это был символизм в декадентском духе. Нет, рассказ г. Горького скрывает в себе тот здоровый художественный символизм, какой найдете вы во многих произведениях наших классиков - Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Щедрина и проч. Одним словом, в бытовой сценке г. Горького, как в микрокосме, отражается то явление, какое мы видим в современной русской жизни, взятой в ее целом» [Скабичевский 1901, 125].
С различных позиций, но положительно была оценена поэма Горького «Двадцать шесть и одна». Критик Н. Геккер приветствовал это произведение как первое у Горького, в котором «находим полную картину труда, в которой <...> мы видим “двадцать шесть” не только работающими изо дня в день при одних и тех же утомительных, изнурительных и опустошающих душу условиях, но и одинаково чувствующими, думающими и одинаково поступающими» [Геккер 1901, 211]. Причину постигшего героев разочарования критик видит в их погоне за иллюзиями и делает весьма недвусмысленный вывод-прогноз о том, что это будет продолжаться до тех пор, пока они «не найдут твердую и сильную опору внутри себя и в своей среде, в своем самосознании и в понимании лучшего идеала» [Геккер 1901, 215]. Поскольку Н. Геккер принадлежал к среде революционеров-профессионалов, а не к профессиональным критикам, пафос его восприятия рассказа понятен.
Л.Е. Оболенский дал более оригинальную и лишенную социальноклассовой подоплеки трактовку поэмы. Он уловил ее «символизм», стремление Горького давать через малое и конкретно-бытовое широкие обобщения. Несколько прямолинейно, но в целом оправданно он полагает, что «она» - это идеал, вера, - «такие, какими живо человечество» [Оболенский 1901, 235]. И справедливо замечает, что несчастные герои Горького, обвиняющие и проклинающие свой идеал, «никогда не поймут, что обокрали себя сами...» [Оболенский 1901, 235]. Оболенский уловил, что у Горького подтекстово-ассоциативно проводится мысль о трагическом неведении «двадцати шести» о присутствии в мире подлинной красоты, о неумении возвыситься до нее.
Заметим, что М. Меньшиков в статье «Красивый цинизм» весьма настороженно прокомментировал те рассказы Горького, которые принято было называть романтическими: «Каждый босяк г. Горького озлоблен на весь мир; он - будучи варваром, невежественным и пьяным, дышит почти байроновским отрицанием. Опасен Герострат, а тут целая армия Геростратов, готовых сжечь священный, строившийся веками, храм общественности. Спасибо г. Горькому, наконец-то он изобразил пролетария без либеральных прикрас, во всем цинизме этого типа. Вот оно, пятое сословие, вот они тощие фараоновы коровы, которые пожрут жирных!» [Меньшиков 1901, 187]. (Вновь заметим, что для интеллигенции рубежа веков еще не существовало понятия «пролетарий» как заводского рабочего).
Понятно, что для животрепещущих откликов, каковыми были рассматриваемые статьи критиков, менее всего следовало бы ожидать внимания к внефабульной сфере произведений Горького, настолько они поражали своими героями, сюжетными ситуациями. Об особенностях его языка писалось много, и с разных точек зрения: одних он восхищал, - тех, кто «принял условия игры», предложенные автором; другие наивно упрекали писателя в том, что его босяки говорят «книжно», - не пытаясь войти в мир, созданный волей автора, а прилагая к нему шаблонно-реалистические мерки.
Но все же сфера природного бытия в изображении Горького не осталась при этом незамеченной. «У г. Горького сочная кисть и свежие краски, пишет он мазками, без лишних слов, без всякой риторики» [Боцяновский 1901, 169]. Своеобразно увидено оно Л.Е. Оболенским, постаравшимся выразить отличие описаний природы у Горького от русских классиков: «Картины г. Горького я позволил бы себе назвать “мучительными”: они проникнуты “мучительной” любовью к природе, мучительной вследствие своей ненасытимости, неудовлетворительности, вечного искания и вопросов, возбуждаемых в душе поэта» [Оболенский 1901, 248].
Функции природной образности критикой тех лет не рассматривалась, но, пожалуй, за это трудно ее винить, ибо речь шла лишь о начале пути молодого писателя, - это, во-первых, а, во-вторых, это было и не в традициях литературно-критического сознания той эпохи.
Не ставя своей задачей типологизировать статьи критиков с точки зрения их социально-политической ориентации, отметим «с высоты» прошедшего огромного промежутка времени более, чем век, то, что объединяет, с нашей точки зрения, литературно-критические работы рубежа XIX-XX вв., что составляет и сегодня их эстетическую значимость.
Привлекает стремление критиков, отчетливо осознающих уникальность, даже экзотичность художественного мира молодого М. Горького, включить его в ретроспективу национальной художественной традиции, причем прежде всего классической, а также традиции устного народного творчества; соотнести его с современной ему европейской философской и культурной жизнью. Важно и то, что новизна художественного сознания автора связывалась с «символизмом» его прозы, - этот термин под пером критиков той поры соответствует современному понятию «символика».
Полагаем, талантливая литературная критика, современная автору, шедшая за ним «шаг в шаг», отражающая и общественные настроения эпохи, и ее философско-эстетические представления и запросы, весьма заслуживает сегодня актуализации внимания современной научной мысли. Здесь необходима корректная «реставрационная» работа, и тогда, после очистки от ставших несущественными различных деклараций, по-новому «заиграет» «живая жизнь» той необыкновенно яркой и сложной эпохи в общественной и культурной жизни страны, именуемой сегодня эпохой Серебряного века, в числе вдохновителей и созидателей этико-эстетических ценностей которой был Максим Горький.
Итак, подводя итоги нашего небольшого исследования, можно утверждать, что относительно недолгий период жизни М. Горького на нижегородской земле в начале его творческого пути ознаменовался активным стремлением молодого писателя выработать свою, индивидуально-авторскую манеру письма, в которой четко обозначились особенности его художественного сознания. Анализ произведений этих лет, как художественных, так и публицистических, эпистолярного наследия, исследование оценок творчества писателя литературной критикой начала XX в. убеждает, что уже в рассматриваемый период М. Горький предстает перед нами как художник, прокладывающий путь искусству нового времени. Новаторский характер его творчества был обусловлен не только закономерностями литературного развития эпохи Серебряного века, в контексте которого следует рассматривать его творчество нижегородского периода. Раннее творчество М. Горького характеризуется тяготением к магистральному типу художественного сознания XX в. - неореалистическому, творческое воплощение которого осуществляется комплексом приемов, отражающих яркую индивидуальность писателя. Лаконизм художественного языка, апелляция к активности читательского восприятия, способного обнаруживать в новом типе прозы ее культурные «коды», символика, метафоричность, опора на архетипические истоки национального менталитета - черты, присущие всем видам литературной, в том числе и эпистолярной, деятельности М. Горького. Важнейшей аксиологической составляющей ее является сопричастность национальной литературной традиции, что обеспечивает

непрерывность «живой жизни» отечественного литературного процесса.
Список литературы Нижегородский период в жизни и творчестве М. Горького: пути становления художественного сознания
- Боцяновский В. В погоне за смыслом жизни//Критические статьи о произведениях Максима Горького. СПб., 1901. С. 161-180.
- Геккер Н. «Двадцать шесть и одна», поэма М. Горького//Критические статьи о произведениях Максима Горького. СПб., 1901. С. 210-215.
- Зайцев Б.К. Чехов//Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991. С. 277-394.
- Лазарев В.Н. Владимиро-Суздальская Русь//Искусство древней Руси. Мозаики и фрески. М., 2000. С. 87-102.