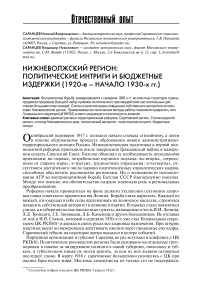Нижневолжский регион: политические интриги и бюджетные издержки (1920-1930 гг.)
Автор: Саранцев Николай Владимирович, Саранцев Владимир Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
Внутриэлитная борьба, развернувшаяся к середине 1920-х гг. во властных структурах страны, продемонстрировала большой набор приемов политического противодействия наступательным действиям большевистских вождей. Сталин в качестве арены повышения собственного авторитета использовал Нижневолжский регион. Применяемые им тактические методы работы позволили превратить пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б) в место решающего политического влияния.
Административно-территориальная реформа, саратовский регион, сталинградский регион, столица нижневолжского края, политический авторитет, политические интриги, бюджетные потери
Короткий адрес: https://sciup.org/170168209
IDR: 170168209
Текст научной статьи Нижневолжский регион: политические интриги и бюджетные издержки (1920-1930 гг.)
О ктябрьский переворот 1917 г. положил начало сначала стихийному, а затем и вполне обдуманному процессу образования нового административнотерриториального деления России. Непосредственная подготовка к первой полноценной реформе произошла после завершения Гражданской войны и намерения создать Советский Союз. Госплан объяснял ее необходимость несколькими причинами: во-первых, потребностью научного подхода; во-вторых, «отречением от старого мира»; в-третьих, трудностями управления; в-четвертых, отсутствием достаточного числа хорошо подготовленных управленческих кадров, способных обеспечить руководство регионами. Но о возможности использования АТР во внутрипартийной борьбе Госплан СССР благоразумно умолчал. Между тем именно это обстоятельство сыграло значимую роль в региональных преобразованиях.
Реформа начала проводиться на фоне резкого ухудшения состояния здоровья главы советского правительства Ленина. Борьба стала нарастать. Каждый из вождей, кто ощущал в себе силы претендовать на ленинское наследие, стремился повысить собственный авторитет и влияние в партии. В городах стали появляться улицы, а в губерниях целые населенные пункты, называемые в честь В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и других большевиков. Не отставал от них и И.В. Сталин, который к середине 1920-х гг. уже стал Генеральным секретарем ЦК РКП(б)1 и держал в своих руках все кадровые назначения. При штурме властных высот он намеревался действовать именно через преданные ему кадры. Саратовский губком на некоторое время оказался в центре событий.
Партийная организация и губсовет Саратова не раз вступали в конфликт с ЦК РКП(б). Политическое руководство региона было разорвано на отдельные группировки в схватке за лидирующие позиции в самой губернии, поскольку и губ-ком, и губисполком никак не могли решить, за кем из них должно оставаться последнее слово. В марте 1918 г. саратовские большевики разошлись с ЦК при оценке Брестского мира. Местные коммунисты не только его не поддержали, но, напротив, категорически возражали. Поэтому Москва к Саратову относилась настороженно.
Кроме того, Нижнее Поволжье в 1918 г. превратилось в один из самых напряженных участков вооруженной борьбы Белого движения и Красной армии. К Царицыну и Саратову с запада приближались донские казаки, с востока – уральские. С юга подходили войска Деникина. В столь драматический момент Сталин как член Политбюро ЦК РКП(б) и РВСР с чрезвычайными полномочиями оказался на Южном фронте. Ситуацию удалось исправить.
Когда в конце 1924 – начале 1925 гг. обострилась схватка с Троцким, генсек имел самую выгодную позицию. Лояльный ему секретарь Царицынского губ-кома Б.П. Шеболдаев инициировал переименование Царицына в Сталинград1. После этого Сталин укрепил свои позиции, а карьера Б.П. Шеболдаева резко пошла вверх – член ЦКК, член ЦК, член ВЦИК, заведующий отделом аппарата ЦК ВКП(б), руководитель партийных организаций нескольких крупнейших регионов в РСФСР.
В дальнейшем генсек намеревался превратить Сталинград2 из рядового губернского центра в столицу всей Нижней Волги. Он несколько раз пытался провести данную операцию, используя авторитет М.М. Харитонова, И.М. Варейкиса, Т.К. Чугунова3 и других, но сделать это так и не сумел. Харитонов, например, примкнул к зиновьевской оппозиции и был снят с работы. Чугунов не пользовался доверием Сталина. Варейкис оказался твердым и последовательным противником устройства столицы НВО4 в Сталинграде. Он даже облек свое мнение в решение бюро губкома: «Саратов в экономическом, культурном и административном отношении, а равно и по условиям транспортной связи с округами имеет перед остальными городами несравнимые преимущества и поэтому должен быть признан областным центром создаваемой Нижневолжской области»5.
Есть основания полагать, что именно тогда у Сталина созрело решение вернуть на Нижнюю Волгу Б.П. Шеболдаева6. Конечно, с открытыми просьбами генсек к нему не обращался. Он просто был убежден, что Б.П. Шеболдаев сделает то, чего от него ждут, но опять потерпел неудачу. За два с половиной года его секретарства в НВК вопрос так и не решился.
Однако Сталин настойчиво продолжал поиск нужного человека. Среди нескольких десятков руководящих партийных работников Сталинграда удалось найти того, кто подходил по важнейшему критерию. Этим человеком оказался В.В. Птуха. Во второй половине 20-х гг. он работал в секретариате сталинградского горкома. Звезд с неба не хватал, был тщеславен и чванлив, имел склонность к обману начальства7. В иных условиях эти качества могли затруднить карьерный рост, но не в этом случае. Являясь региональным партработником средней руки, он, в противовес многим другим, твердо настаивал на переносе столицы Нижней Волги в Сталинград.
Варейкис, узнав, что у Птухи появился высокий покровитель, решил, тем не менее, не отступать от намеченного плана и взял дело под личный контроль. Он обратился в ЦК с просьбой вызвать его для доклада. Однако Сталин на его просьбу не откликнулся. Тогда Варейкис инициировал постановление президиума большевистской фракции Саратовского губисполкома о направлении в столицу официальной делегации в составе членов президиума губсовета М.Н. Белкина, И.М. Варейкиса и Т.К. Чугунова. В задачу делегации входило добиться приема у генсека и аргументированно убедить его в правоте принятого губкомом и губис-полкомом решения.
Несмотря на все ухищрения, саратовцам в аудиенции отказали под предлогом занятости генсека. Выяснить, кто из руководящих работников принимал делегацию Саратова (и принимал ли вообще), до сегодняшнего дня не удалось. Однако точно установлено, что одновременно с пребыванием в Москве представителей Саратова в столице оказались и сталинградцы (секретарь губкома В.В. Птуха и председатель губисполкома М.Ф. Болдырев). Они прибыли в Москву с аналогичной целью – доложить ЦК «собственную» точку зрения. К сталинградцам лидер партии отнесся значительно «внимательнее». 28 марта 1928 г. он принял обоих1. Темой разговора являлись «вопросы районирования»2. Но при явно «сочувственном» отношении к позиции Птухи и Болдырева генсек не решился пойти наперекор мнению саратовских большевиков. Он, скрепя сердце, вновь отложил исполнение своих намерений, и Политбюро ЦК одобрило резолюцию саратовского губкома.
Обстоятельства приема Сталиным посланцев Сталинграда вызывают большой интерес. В журнале посетителей кабинета вождя есть запись: «28 марта прием не состоялся по причине совещания»3. Однако при детальном изучении содержания публикуемых документов удалось выяснить, что прием все-таки был. Кроме Птухи и Болдырева, генсек принял журналиста Ю.М. Стеклова4. Птуха, Болдырев и Стеклов находились в кабинете Сталина 45 минут5. Если сопоставить все факты, становится ясно, что совещание посвящалось тактике дальнейшего поведения региональных сторонников генсека. Они должны были объяснить партэлите региона свое «поражение», поскольку случившееся в партии могли истолковать как политическую пощечину, публичное унижение, нежелание саратовцев считаться с самолюбием Сталина. Поэтому приняли решение о «временном отступлении».
14 мая 1928 г. (протокол № 56) Президиум ВЦИКа и СНК РСФСР своим постановлением провозгласил создание Нижневолжской области с центром в Саратове. В областной газете появилось подготовленное в марте в кабинете вождя «интервью» секретаря сталинградского губкома В.В. Птухи с журналистом Ю.М. Стекловым. На вопрос: «Как относятся сталинградские товарищи к постановлению Президиума ВЦИКа?», – первый секретарь сделал хорошую мину при плохой игре. Его ответ выглядит отрепетированным и согласованным. «Некоторые товарищи, – рассказал Птуха, – склонны считать, что теперь, после принятого решения, работники нашей организации как бы в обиде. Это неверно. Но мы опасаемся, что темпы хозяйственного роста, которые имеются сегодня по Сталинграду, могут снизиться. Само собой разумеется, что районирование всего края предполагает решение основной задачи: обеспечить области еще больший хозяйственный рост. Вот почему надо скорее изжить “отголоски” нашей “исторической борьбы” с Саратовом, которая имеет почти 7-летнюю давность»1. Но это не было концом истории. Она имела продолжение.
24 октября 1930 г. Сталин принял у себя Шеболдаева и предложил ему перебраться на равноценную (а возможно, и более значимую), должность в Ростов-на-Дону.
Несмотря на сомнительные, а по некоторым позициям даже провальные показатели работы сталинградской парторганизации, 11 августа 1930 г. крайком выдвинул В.В. Птуху на пост второго секретаря Нижневолжского крайкома, а через 5 месяцев2 ЦК рекомендовал его уже первым секретарем НВК3.
Очень скоро он успешно провел через бюро и пленум крайкома решение о переносе столицы Нижневолжского края в Сталинград и начал методично перемещать управленческие структуры в город, носящий имя вождя. Партийная организация Саратова сразу почувствовала мстительные настроения, исходящие от «сталинградской фракции». Наиболее способных и перспективных работников из города отозвали, а в Саратов направили наименее образованные и слабо подготовленные кадры. Недостойно обошлись и со статусом бывшей столицы. Недавний краевой центр превратили в районный центр, что, по существу, полностью уничтожало его авторитет и роль в стране. Бюро крайкома ВКП(б) объявило: «В целях улучшения руководства городским хозяйством считать целесообразным организацию в Саратове горкома партии, ликвидировав все три райкома. В обслуживание горкома включить пригородную зону, входящую ранее в состав Саратовского района»4. Одновременно в Сталинграде из городских поселков сформировали пять районов5.
Необдуманные политические и административно-территориальные реорганизации привели к снижению управляемости в крае. Более всего от этого пострадал Саратов. Город потерял от 40 до 50% ранее выделяемых материально-технических ресурсов. Кроме того, на перенос столицы были затрачены огромные бюджетные средства6, которые пригодились бы для иных, более важных вложений7. Ведь еще совсем недавно Сталин, обращаясь к Б.П. Шеболдаеву, писал: «Дела с хле- бом у нас обстоят неблагополучно. Северный Кавказ и Украина ввиду частичного (выделено нами. – Авт.) неурожая значительно сократили хлебозаготовки. ‹…›. Я бы хотел, чтобы Вы приняли во внимание, что ‹…› мы не можем импортировать хлеб – нет средств; мы должны удовлетворить не только обычные потребности городов, но и прокормить ‹…› пораженные неурожаем пять северных губерний, при снижении заготовок на Северном Кавказе и выпадении Украины из списка поставщиков хлеба для центра»1.
Этот документ написан Сталиным 25 января 1929 г., но в 1932 г. ситуация была значительно хуже. Тогда продовольственный кризис поразил все юго-западные и южные регионы страны. Тяжелейшее положение сложилось и на Нижней Волге. На оплату сдаваемого колхозным крестьянством хлеба выделялись мизерные суммы, а нередко и их не платили. В качестве примера можно привести следующие материалы ГАНИ СО: в «Самойловку привезли 13 тыс. пудов хлеба, а денег нет. Тогда секретарь РК ВКП(б) и председатель РИКа “приняли решение”: забрать деньги на станции, в кооперативе, позаимствовать поступления от единого сельхозналога, взять часть зарплаты железнодорожников и все отдать Союзхлебу. За хлеб заплатили. Но, в свою очередь, сорвали заготовку скота (500 голов). Скот, из-за отсутствия средств, угнали обратно в хозяйства. У элеваторов скапливалось большое количество подвод, которые простаивали сутками»2.
Израсходованные на перенос столицы НВК деньги можно было бы употребить более эффективно, повысив, например, закупочные цены на сдаваемые сельхозпродукты. От председателей колхозов поступали предложения увеличить закупочные цены на хлеб в 3 раза – с 12 коп. за пуд до 36 коп.3 Но ЦК ВКП(б) предложение отверг. Тем не менее слухи о возможном повышении закупочных цен продолжали циркулировать в коллективных хозяйствах и в среде единоличников, существенно снижая темп хлебосдачи4. Другим сдерживающим фактором являлся обман при обещании предоставить выполнившим план заготовок возможность купить дефицитные промтовары (мануфактуру, кровельное железо, олифу, кожтовары, обувь и др.). Сердобинские колхозники жаловались в крайком на то, что Хлебсоюз, прислав в район 255 пар сапог5 для поощрения передовиков сельскохозяйственного производства, забыл указать на них цены6.
Укрепление властных позиций у многих большевистских лидеров в середине 1920-х гг. превращалось в самоцель. Ради повышения собственного авторитета и расширения влияния они были готовы пренебрегать политической целесообразностью и социально-экономической эффективностью своих решений. Эти люди нисколько не задумывались над вопросом, пользу или вред своими действиями они приносят народу и государству.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА НА ЭТАПЕ СВЕРТЫВАНИЯ НЭПА: ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ
(по материалам Поволжья)
Э похальные события 1917–1930-х гг. в истории российского общества заслоняют собой закономерные процессы социального и экономического развития. Накал революционной борьбы, гражданская война стали мощным импульсом внутриполитического противостояния на последующие два десятилетия, что для оценки причин смены государственной продовольственной, как и в целом экономической, политики имеет принципиальное значение.
В 20–30-х гг. общество сохраняет социально-политическую пассионарность, поэтому правящей партии важно было не утратить контроль над массами, что требовало соответствующей постановки и решения задач, придания им политического характера вне зависимости от того, являлись ли они таковыми.