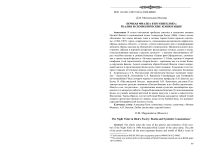Ночная фиалка в поэзии Блока: реалия и символические коннотации
Автор: Магомедова Дина Махмудовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье поставлена проблема генезиса и семантики символа Ночной Фиалки в одноименной поэме Александра Блока (1906). Сюжет поэмы объединяет все самые важные темы и мотивы лирики Блока периода «антитезы» (1904-1907): город, современность, скандинавско-вагнеровская мифология, образы-символы «болото», «стихия», утрата изначального рая и трансформация женского образа, надежда на обновление и возрождение. Проводится анализ родственных образов в мировой литературе: фольклорные легенды, сказки и песни, отождествляющие девушку с цветком, зачастую - с цветком заколдованным; образ «голубого цветка» в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген», упоминание о запахе ночной фиалки в «Путевых картинах» Г. Гейне, героиня «Северной симфонии (1-ой героической)» Андрея Белого - королевна, как и в поэме Блока, в окружении фиалок. Анализ семантики образа Ночной Фиалки ставит вопрос, какой цветок в представлении Блока носил такое название. В решении этого вопроса главным источником явилась книга двух знаменитых немецких ботаников Б. Ауэрсвальда и Э.А. Россмесслера «Ботанические беседы» (немецкое название - Auerswald B., Rossmässler E.A. Botanische Unterhaltugen zum Verständniss der heimatlichen Flora), которую перевел и дополнил профессор А.Н. Бекетов, дед Блока. В «Шестнадцатой беседе», написанной А.Н. Бекетовым, растение Платантера получает русские синонимы «Ночная Фиалка» или «Любка двулистная». Мысль о том, что растения - одушевленные живые существа, неоднократно проводится и в авторских работах Андрея Николаевича Бекетова. По воспоминаниям Блока, он узнавал названия растений во время прогулок с дедом в окрестностях Шахматова. Таким образом, для поэта Ночная Фиалка оказывается тайной тезкой главного прототипа героини его лирики, жены поэта Любови Блок, что выявляет скрытый биографический подтекст поэмы
Александр блок, символика, генезис, семантика, "ночная фиалка", а.н. бекетов, любка двулистная, скрытый сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/149127271
IDR: 149127271 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00069
Текст научной статьи Ночная фиалка в поэзии Блока: реалия и символические коннотации
4 декабря 1905 г. близкий друг Блока Е.П. Иванов записал в дневнике: «Получил письмо от А. Блока. О сне с 15 на 16-е» [Иванов 2018, 116]. В этом письме, посланном 3 декабря, Блок сообщал о своем сне так: «76 ноября мне приснилось нечто, чем я живу до сих пор. Такие изумительные сны бывают раз в год - два года» [Блок 1965, 142. Выделено Блоком. -Д.МД. Описание этого сна находим в записной книжке Блока № 11, в первом наброске поэмы под заголовком: «Самое важное (сон с 16 на 17 ноября)». Современный читатель может прочесть этот текст в разделе «Другие редакции и варианты» 2 тома ПАСС Блока [Блок 1997-2014, II, 247-250]. Полгода шла работа над первоначальным описанием сна, и в мае 1906 г. Блок уже читал друзьям законченную поэму «Ночная Фиалка» с подзаголовком «Сон». В примечаниях ко второму тому «лирической трилогии» Блок пояснил: «Эта поэма - почти точное описание виденного мною сна» [Блок 1997-2014, II, 220]. Строго говоря, это не совсем так: достаточно сравнить первоначальную запись и окончательный текст поэмы, чтобы увидеть, что во сне не было ни спящих скандинавских владык и воинов, ни шума моря и мотива Нечаянной Радости.
Впервые Блок опубликовал поэму в сборнике «Нечаянная Радость» 1907 г. О том, как важна эта поэма для всего сборника, свидетельствуют несколько фактов.
Во-первых, Блок первоначально намеревался назвать весь сборник так, как называется поэма - «Ночная Фиалка».
Во-вторых, в предисловии к сборнику Блок особо выделил тему Ночной Фиалки: «Нечаянная Радость близка. Она смотрит в глаза мне в глаза мне очами синими, бездонными, как очи королевны Ночной Фиалки, которая молчит и прядет. И я смотрю на нее, но вижу ее как бы во сне. Между нами нет ничего неразгаданного, но мы все еще незнакомы друг другу» [Блок 1997-2014, II, 215]. Необходимо отметить, что «очи синие, бездонные» связывают «Ночную Фиалку» еще с одним ключевым произведением этого времени - стихотворением «Незнакомка».
В-третьих, поэма не просто входит в сборник «Нечаянная Радость», она завершает его: обычно в начале и в конце сборника помещаются тексты, которые концентрируют в себе самые значимые для всей книги тематические и мотивные комплексы.
И действительно, все самые важные темы и мотивы лирики Блока этого периода - город, современность, скандинавско-вагнеровская мифология, «болото», «стихия», утрата изначального рая и трансформация женского образа, надежда на обновление и возрождение - объединены в сюжете «Ночной Фиалки».
Но, несмотря на все значение этой поэмы, критики при жизни Блока писали о ней очень мало. Поэма казалась им «странной», «невнятной», скучной, даже «бредовой». См., напр., отзыв Н.Я. Абрамовича: «“Ночная фиалка” - поэма без содержания, без образов, какой-то скучный бред, длинный и утомительный» [Абрамович 1907, 93. Наг. 3-я], а также свод отзывов о поэме в глубоком и обстоятельном комментарии в Полном академическом собрании сочинений [Блок 1997-2014, II, 583-584]. Столь же невнимательно рассматривалась эта поэма в позднейших литературоведческих работах о Блоке: как правило, упоминали ее очень бегло, называли «аллегорией», видели в ней прежде всего «развенчание» мистицизма, прощание поэта с юношеским идеалом, революционные предчувствия. Ср.: «Аллегория “Ночной Фиалки” - не аллегория событий и действий, это аллегория размышлений и ощущений» [Долгополов 1964, 60]. И лишь к 100-летию Блока в махачкалинском малотиражном сборнике появилась статья С.Н. Бройтмана «Жанрово-композиционное своеобразие поэмы А. Блока “Ночная Фиалка”», в которой содержался тонкий и подробный анализ структуры поэмы [Бройтман 1980, 21-35; Ре-публикация: Бройт-ман 2008, 233-252]. Позднее была опубликована статья С.Ю. Ясенского «Роль и значение реминисценций и аллюзий в поэме “Ночная Фиалка”», описывающая многообразные источники поэмы [Ясенский 1991, 64-77]. Современный комментарий к поэме во 2 томе ПАСС Блока учитывает все, что было сделано наукой в последние десятилетия, и на сегодняшний день это наиболее полный компендиум сведений о творческой истории поэмы, о ее генезисе, о связях с другими текстами Блока. И все же кое-что не учтено и в этом комментарии. Но прежде, чем об этом говорить, укажем на те источники поэмы, которые сегодня более или менее выявлены и признаны в науке о Блоке.
То, что героиня поэмы - одновременно и «некрасивая девушка с неприметным лицом», и королевна, сидящая за бесконечной пряжей, и цветок Ночной Фиалки, заставляет вспомнить о фольклорных легендах, сказках и песнях, отождествляющих девушку с цветком, зачастую - с цветком заколдованным (например, королевна Шиповничек в немецких сказках). У Блока такое отождествление - и, кажется, именно с ночной фиалкой! -мы встречаем задолго до поэмы «Ночная Фиалка». Еще в стихотворении 1902 г. «Стою у власти, душой одинок...» он писал:
Стою у власти, душой одинок, Владыка земной красоты.
Ты, полный страсти ночной цветок, Полюбила мои черты.
[Блок 1997-2014,1, 135]
В литературе Нового времени прежде всего следует назвать неоконченный роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», в котором множество перекличек с поэмой Блока [Дьёндьёши 2004, 19-58]. Главная же состоит в том, что уже в первой главе герой романа видит во сне голубой цветок и отождествляет его с далекой возлюбленной. Об этом романе Блок упомянул в своих тетрадях «Моя декламация...»: «Г<енрих> ф<он> Офтердинген (герой романа Новалиса) проводит жизнь в погоне за “голубым цветком” (символ идеальной поэзии): “Жизнь становится сновидением, а сновидение - жизнью”» [РО ИРЛИ. Ф. 654. Он. 1. № 175. Л. 95].
У Новалиса голубой цветок не отождествляется ни с одним реальным земным цветком. Но у Генриха Гейне, которым был одновременно и наследником, и ироническим критиком немецких романтиков начала XIX в., в его «Путевых картинах», герой вспоминает об умершей возлюбленной по имени Мария и о запахе ночных фиалок в комнате, где стоял гроб с ее телом. И этот текст был хорошо знаком Блоку. В его библиотеке сохранилось Полное собрание сочинений Г. Гейне в б т. (СПб.: Изд-во А.Ф. Маркса, 1904). «Путевые картины» напечатаны в Т. 2. В упомянутом фрагменте Блок не только подчеркнул слова «ночная фиалка», но и сделал надпись на полях: «Отнош<ение>. к романт<изму> и тоска по голуб<ому> цветку» [Библиотека А.А. Блока 1984, 196].
У Андрея Белого в «Северной симфонии (1-ой героической)», тоже немало перекличек с поэмой Блока. Ее героиня - королевна северной страны, уединенно живущая в лесной глуши. Престарелый король называет ее «одинокий северный цветок», у нее «синие очи», а у ручья в лесу цветут «голубые фиалки» [отмечено: Ясенский 1991, 72].
Но заметим: у Блока, в отличие от Новалиса и Белого, меняется цвет: он не голубой, а лиловый, фиолетовый. Говоря о первом своем впечатлении от рассказа Блока о «Ночной Фиалке», Андрей Белый вспоминает прежде всего об изменении цвета: «Он пытался мне выразить, что теперь он

пришел к удивительному, очень важному внутреннему узнанью; узнанье связалось с восприятием сильно-пахнущего фиалкою темно-лилового цвета» [Белый Андрей 1997, 192]. Для Белого, по его признанию, существовали три основных священных цвета: белый, голубой и пурпурный. Все три цвета - чистые, не смешанные. Но когда в сакральный голубой проникает пурпур, цвет смешивается и становится демоническим. Для Блока лилово-зеленая гамма была связана прежде всего с творчеством Врубеля, с его Демоном (позднее он скажет об этом в статьях 1910-х гг). Вот почему те, кто владел ключом к языку символов Блока, самые близкие ему люди, такие, как Андрей Белый и даже Л.Д. Блок, увидели в этой поэме прежде всего «помрачение» прежнего идеала.
Обратим особое внимание: по свидетельству Е.П. Иванова, Любовь Дмитриевна отнеслась к поэме настороженно. В своем дневнике он записал: «Любе не нравится тревога» [Иванов 2018, 141]. В чем могла заключаться причина этой тревоги?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, зададим еще один, на первый взгляд с первым не связанный: а какой именно цветок Блок называл ночной фиалкой?
В статье С.Ю. Ясенского и в комментариях Академического собрания сочинений говорится, что речь идет о так называемой ночной красавице, маттиоле, гесперис, вечернице, или, по-латыни, Hesperis matronalis [Ясен-ский 1991, 70; Блок 1997-2014, II, 584]. Растение довольно высокое - до 100 см., у него крупные цветы, около 2 см в диаметре, фиолетового, белого или пурпурного цвета. Растение яркое, заметное, но в справочниках оно описывается не столько как дикорастущее, сколько как... декоративное садовое. Встречается ли этот цветок среди шахматовской флоры, неизвестно, зато точно известно, что в северных лесах, вокруг Петербурга и в Карелии не встречается. Если описанный Блоком болотистый лес относится к петербургской флоре, то вечерниц там просто не могло быть. Единственное место, где Блок мог видеть его в Петербурге - это ботанический сад, который его дед Андрей Николаевич Бекетов создал при университете.
Но повсеместно, и в окрестностях Шахматова, и в лесах под Петербургом растет еще один цветок, тоже называемый ночной фиалкой. Научное название этого цветка по-русски - Любка двулистная, по-латыни - Platan-thera bifolia. На вид более скромный, бело-зеленый, причудливой формы, немного напоминающий ландыш, с сильным ароматом, этот цветок знаком всем жителям Москвы и Подмосковья. Когда мать Л.Д. Менделеевой Анна Ивановна рассказывает, как они с крошечной девятимесячной Любой приехали в гости в Шахматово и как маленький Саша Блок пришел с прогулки с дедом и принес букетик ночных фиалок, скорее всего это была именно Любка двулистная, а не вечерницы. Как рассказывает далее Анна Ивановна, «букет он подал Любе, которую держала на руках няня. Это были первые цветы, полученные ею от своего будущего мужа» [Менделеева 1980, 73].
Почему эта версия представляется более вероятной?
Как вспоминает Мария Андреевна Бекетова [Бекетова 1990, 38] и как утверждает Блок в своей Автобиографии (1915), знания по ботанике пришли к нему от деда, от совместных прогулок в окрестностях Шахматова в поисках растений для гербариев: «Мои собственные воспоминания о деде - очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий» [Блок 1960-1963, VII, 8].
Какое же растение называл ночной фиалкой Андрей Николаевич Бекетов? Ответить на этот вопрос оказалось очень просто. Среди его работ есть перевод, а вернее, свободное переложение труда двух знаменитых немецких ботаников Б. Ауэрсвальда и Э.А. Россмесслера «Ботанические беседы» (изд. 3-е, исправленное и дополненное переводчиком. М., 1898). Эта книга выдержала в России несколько изданий, и нет сомнений в том, что она была в домашней бекетовской библиотеке. Как писал А.Н. Бекетов в предисловии переводчика, ему «кое-что пришлось <.. .> изменить, кое-что прибавить, чтобы она во всех отношениях была полезна нашим соотечественникам. <...> Изменения касались особенно времени цветения растений, распространения их, описания лишних видов, встречающихся в России и не водящихся в Германии». Переводчик признавался: «Более всего затруднила меня терминология. <.. .> Я должен был многие выражения изобретать вновь» [Ауэрсвальд, Россмесслер 1898, V]. О Любке двулистной говорится в Шестнадцатой беседе (С. 116-126), и нет сомнения, что описание и называние его принадлежит не немецким авторам, а переводчику:
«Это растение водится не только по всей Европе, но распространено также по всей Русской империи, не исключая северных пределов Финляндии, Архангельской губернии и Сибири до Камчатки включительно. На севере цветет она в конец июня, на юге - в начале мая, в Москве - в начале июня. Любка растет по лугам и особенно любит светлые рощи, которые наполняет прекрасным, сильным ароматом своих зеленовато-белых цветов.
Платантера <...> имеет несколько народных названий. Из них малороссийское - Любка показалось нам лучше и удобнее других по краткости. Около Москвы Любку называют Ночною Фиалкою и Кукушкиными Слезками» [Ауэрсвальд, Россмесслер 1898, 116].
Еще одно интересное замечание авторов Шестнадцатой беседы заключается в том, что Любка не может обходиться без пруда или болота: «Осушение болот и прудов уничтожает множество редких болотных и водяных растений» (С. 122), и, наконец, обнаруженное авторами книги сходство цветков Любки с разными фигурами «башмачков, мух, пауков, даже человеческого лица» (С. 124). Кстати, мысль о том, что растения - истинно одушевленные живые существа, неоднократно проводится и в авторских работах Андрея Николаевича Бекетова.
Таким образом, Ночная Фиалка оказывается... тайной тезкой Любови Дмитриевны, Любы. И связь образа королевны Ночной Фиалки с героиней «Стихов о Прекрасной Даме», и биографический подтекст поэмы получают дополнительную мотивацию в неназванном, но подразумеваемом общем имени.
Итак, если мы примем гипотезу о том, что Ночная Фиалка - это Любка двулистная, то станет понятна и тревога Любови Дмитриевны, проявленная при первом чтении поэмы: героиня лирики Блока, которую она привыкла отождествлять с собой, погружается в мир сна, близкого к смерти, а за стенами ее оцепеневшего мира слышатся раскаты волн, и именно оттуда, из чужого для нее мира может прийти Нечаянная Радость. Таков неявный биографический подтекст поэмы, которая, правда, заканчивается так, что оба мира - и мир сна, и мир яви неожиданно совмещаются и возрождаются: «И Нечаянно Радость придет / И пребудет она совершенной. / И Ночная Фиалка цветет» [Блок 1997-2014, II, 33].
Против этой гипотезы говорит только одно: Блок настаивает на том, что Ночная Фиалка лиловая или фиолетовая, а Любка - зеленовато-белая. Е.П. Иванов даже недоумевал при первом чтении поэмы: «(Красное вино), говорит, фиолетового цвета, а фиалка ведь белая, а не красная, говорю я» [Иванов 2018, 141]. Ответа Блока в дневнике Иванова нет. Конечно, можно предположить, что в вечернее время ночная фиалка действительно приобретает лилово-зеленый цвет. Более смелой гипотезой будет возможность совмещения в тексте поэмы Блока впечатлений сразу от двух, а то и трех цветов: Любки двулистной, фиалки трехцветной и маттиолы (гесперис). Иными словами, реальные впечатления, формирующие образ цветка, так же полигенетичны, как и книжные источники поэмы.
Список литературы Ночная фиалка в поэзии Блока: реалия и символические коннотации
- Ауэрсвальд Б., Россмесслер Э.А. Ботанические беседы. Изд. 3-е, исправленное и дополненное переводчиком. М., 1898.
- Бекетова М.А. Александр Блок: биографический очерк // Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990.
- Белый Андрей. Воспоминания о Блоке // Белый Андрей. О Блоке: воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997.
- Библиотека А.А. Блока: описание. Кн. 1. Л., 1984.
- Бройтман С.Н. Жанрово-композиционное своеобразие поэмы А. Блока "Ночная Фиалка" // Шахматовский вестник. Вып. 9. М., 2008. С. 233-252 (републикация).
- Долгополов Л.К. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX - начала XX веков. М.; Л., 1964.
- Дьёндьёши М. А. Блок и немецкая культура: Новалис, Гейне, Ницше, Вагнер. Frankfurt am Main, 2004.
- Иванов Е.П. Воспоминания об Александре Блоке // Александр Блок и Евгений Иванов: в 2 кн. Кн. 2. Е.П. Иванов. Воспоминания о Блоке. Статьи / сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб., 2018. С. 77-410.
- Менделеева А.И. А.А. Блок // Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 70-80.
- Ясенский С.Ю. Роль и значение реминисценций и аллюзий в поэме "Ночная Фиалка" // Александр Блок: исследования и материалы. Л., 1991. С. 64-77.