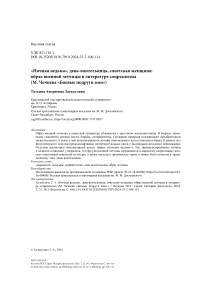«Ночная ведьма», дева-воительница, советская женщина: образ военной летчицы в литературе соцреализма (М. Чечнева «Боевые подруги мои»)
Автор: Загидулина Т.А.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Образ военной летчицы в советской литературе сближается с архетипом женщины-воина. В очерках значимыми становятся мотивы мести, борьбы, соперничества. Гендерная инверсия подчеркивает приобретенную мужественность, в связи с чем актуализируются мотивы невозможного или отложенного брака. В рамках мифопоэтического подхода проанализированы интертекстуальные связи с былинными женскими персонажами. Отдельно рассмотрен номинативный аспект образа («ночные ведьмы»). Так, проанализированные мотивы и аллюзии позволяют утверждать, что фигура военной летчицы встраивается в парадигму андрогинных женских персонажей советской культуры, а также наследует архаические черты и может быть отнесена к традиционному типу девы-воительницы.
Соцреализм, мемуары, мифопоэтика, дева-воительница, образ летчицы
Короткий адрес: https://sciup.org/147243539
IDR: 147243539 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-2-106-114
Текст научной статьи «Ночная ведьма», дева-воительница, советская женщина: образ военной летчицы в литературе соцреализма (М. Чечнева «Боевые подруги мои»)
,
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 23-18-00408); ; Русская христианская гуманитарная академия им. Ф. М. Достоевского
,
The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation no. 23-18-00408; Russian Christian Academy for Humanities named after Fyodor Dostoevsky;
Изучение советской литературы и культуры не теряет актуальности на протяжении последних десятилетий. Анализу ортодоксальной советской культуры посвящены работы Е. А. Добренко [1993; 2007], В. З. Паперного [2011], Б. Е. Гройса [1993], Н. В. Ковтун [2004], Т. А. Кругловой [2005], а также обобщающий определенный этап ее изучения сборник статей «Социалистический канон» [2000] и др.
Осмыслению феномена воплощения образа советской женщины в литературе посвящены работы А. И. Куляпина [2011] (онтологический статус новой женщины 30-х гг. ХХ в.), Н. В. Ковтун [2018] (смена гендерной парадигмы, появление образа «комиссарши»), О. А. Скубач [2020] (осмысление Арктического сюжета через призму женской проблематики), Д. И. Наволоцкой [2021] (репрезентация стахановки), однако специальных исследований репрезентации фигуры военной летчицы обнаружено не было.
Настоящая статья служит логическим продолжением изучения гендерного аспекта авиационного дискурса в советской литературе [Загидулина, 2019, с. 116–129]. Цель работы – выявление значимых элементов образа военной летчицы, обоснование его типологического сходства с архетипом девы-воительницы, обнаружение специфических соцреалистических напластований (автор очерков акцентирует внимание на таких чертах персонажей, как строгость, спокойствие, дисциплинированность, что является своеобразным маркером соцреали-стического положительного героя-мужчины) в рассматриваемой модели. Материалом послужили тексты мемуарного характера. Традиционно устойчивыми признаками подобного типа литературы считаются фактографичность, событийность, ретроспективность, непосредственность авторских суждений, живописность, документальность [Якушева, 2001, с. 524]. Мемуаристика соцреализма, в свою очередь, наделена исторической доминантой, редуцирующей субъективное начало [Балина, 2002, с. 251], что необходимо учитывать при изучении очерков М. П. Чечневой (1922–1984) 1.
Осуществление научной цели работы достигнуто применением структурно-типологического метода и метода мифопоэтического анализа.
Результаты исследования
Анализируя образ военной летчицы, невозможно обойти вниманием номинативный аспект. Летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого ордена Суворова полка в стане противника, по словам самих участниц событий, называли «ночными ведьмами» (die Nachthexen) или «летающими ведьмами». Самое раннее из найденных в советской печати упоминаний датируется 10 марта 1945 г.: «– Нас, летчиц По-2, немцы называют “ночными ведьмами”, – рассказывает с улыбкой Руфина Гашева. – Они говорят, что мы черные, худые, мрачные…» [Бобров, 1945, с. 4].
В немецкоязычной культуре образ ведьмы достаточно традиционен. По определению Г. Шверхоффа, ведьмы – «Скверные люди, и притом по преимуществу представительницы женского пола, которые заключили договор с дьяволом, чтобы с его помощью, применяя разнообразные колдовские средства, причинять всяческий вред жизни, здоровью, имуществу, домашнему скоту, посевам и садам других людей; <…> это люди, которые легко могли превращаться в животных, таких как кошка, волк или мышь, и в таковом обличье являться людям» [Шверхофф, 1996, с. 308].
В статье Е. А. Калкаевой, посвященной анализу образа ведьмы в немецких сказках на материале сборника «Kinder- und Hausmärchen» («Детские и семейные сказки») братьев Гримм, сделан вывод о том, что «можно выделить структуру, соответствующую некоторым демонологическим рассказам: ведьма наносит ущерб человеку, благам которого она завидует или просто желает присвоить их; человеку удается справиться с ведьмой» [Калкаева, 2021, с. 47]. Мотивация номинации может быть связана со способностью ведьмы к полетам.
Несмотря на негативную окраску слова «ведьма» в русском языке [Нефедов, Макарова, 2017], в данном случае лексема вызывает явно противоположные ассоциации 2. Мотивы жертвенности и защиты оправдывают изменение природы человека, меняют восприятие образа и самого слова в общественном сознании. Номинация – значимый элемент исследуемой модели, однако типологически героиня не является ведьмой, в текстах не обнаружено мотивов, связанных с колдовством. Так, имя не становится сущностью: сама функция персонажа этому противоречит. Стремление героини мстить врагу, защищать свой народ, отрекаясь от собственной феминности, позволяет говорить о мифопоэтической составляющей образа и отсылает к образу женщины-воина.
Фигура военной летчицы сближается с типом девы-воительницы, детально описанным В. Б. Зусевой-Озкан, которая выделяет характерологический, гендерный, мифопоэтический, аллюзивный, номинативный критерии персонажа [2021, с. 26]. Дева-воительница «наделена такими характерологическими особенностями, как физическая и душевная сила, гордость, суровость, переходящая в жестокость, упорство, способность к сопротивлению и желание одержать верх во что бы то ни стало…» [Там же]. Образ воительницы характеризуется гендерной инверсией 3. В исследуемых текстах это явление представлено, например, в эпизоде, когда комиссар (женщина) обращает внимание на внешний вид летчиц: «Не улыбнуться было невозможно: в больших, чуть ли не до пят гимнастерках, широченных галифе, огромных кирзовых сапогах мы походили скорее на персонажей юмористического журнала, чем на солдат» [Чечнева, 1975]; «Ходить в таком виде – только срамить армию. Я уж не говорю о том, что не гоже ронять достоинство женского пола. Объявляется аврал» [Там же]. Примечательно, что изменение внешнего вида женщин должно привести к тому, что они будут похожи на солдат, т. е. приобретут максимально маскулинный облик. Подобная инверсия подсвечивается феминизацией представителей противоположного пола. В этом смысле показателен эпизод из очерка «Сердце, полное огня». Женя Крутова пишет матери о том, что та должна более строго относиться к своему сыну – брату героини, который также находится в армии, не высылать ему денег и не проявлять излишнего сочувствия к его доле: «А характер надо помочь ему исправить, и помочь в этом должны мы с тобой. Ты пишешь, что послала ему денег, не сердись, родная, но зря. <…> А потом я ему сама аттестат вышлю – у меня есть из чего. И сейчас есть, да не пошлю! <…> Жизнь сурова – надо относиться к ней строго» [Там же]. Таким образом, героиня берет на себя функцию главы семьи, обладая для этого всем необходимым как в моральном, так и в материальном смысле. Строгость же – одна из ключевых черт положительного героя-мужчины литературы соцреализма [Кларк, 2000]. В данном случае героиня обладает этим качеством в отличие от своих матери и брата.
Еще один важный элемент образа девы-воительницы в контексте гендерной инверсии – отсутствие сексуальных контактов с мужчинами. Такая женщина не является женщиной в полном смысле слова: она не жена и не мать. Биографии летчиц, представленные в сборнике, построены по одной (с небольшими отклонениями) сюжетной схеме: типичное советское детство, юность, появление мечты об авиации, ее осуществление. Часто в эту схему включены мотивы женской дружбы, сестринства. Ярким примером реализации такой конструкции служит описанная в очерке «Воздушный академик» юность Кати Тимченко: «Вот она, девчушка, сидит на чьих-то крепких плечах. <…> Немало часов провела она в библиотеке, листая книги о воздухоплавании <…>. А когда окончила школу, твердо решила пойти в дирижаблестроительный институт <…>. В институте Катя познакомилась с непоседливой девчонкой Женей Жигуленко. Они стали неразлучны. <…> С началом войны девушки сразу почувствовали себя повзрослевшими на много лет» [Чечнева, 1975].
Очерк «Наш Корчагин» начинается с истории школьной дружбы Гали Докутович и Полины Гельман, препятствием которой не смогла стать даже война: «– Пришла проститься. Сколько лет мы с тобой дружили и не расставались, но вот настало время... Полина задумалась.
– А знаешь, я с тобой не расстанусь, Галя, – решительно сказала она.
– Тебе нельзя. У тебя же здоровье...
– У всех “здоровье”!.. Не нужно об этом» [Там же].
Однако мужские образы присутствуют в очерке – у Гали появляется возлюбленный – Миша, судьба пары трагична: сначала сгорает в самолете Миша, а потом погибает и Галя, так и не став женой и матерью. Примечательно, что боевые товарищи Миши сочиняют песню: «А песня была шуточная. <…> Про Мишку Шульгу, летчика, и штурмана Галину. Дело было в том, что рассказывала песня, что она была очень неприступной девушкой <…>. И все-таки не устояла. Пообещала, что полюбит его, если перегонит он ее на своем истребителе. И вот бедняжка Миша гнал свой ястребок, мчался по небу за неуловимым бомбардировщиком. Да так и не догнал...» [Там же]. Здесь же проявляется очень важная характерологическая особенность - столкновение с героем-возлюбленным в бою, что прямо отсылает к архаическому былинному сюжету [Дунай и Добрыня сватают невесту князю Владимиру, 1988; Женитьба Добрыни, 1988]. В былинах богатырки часто сильнее своих соперников, как, например, Настасья Королевична, которая в первом поединке потерпела поражение случайно, хотя явно превосходила в силе Дуная, или Василиса Микулишна, одолевшая Добрыню, что не помешало ей выйти за него замуж. Эта близость сюжетов характеризует военную летчицу как деву-воительницу именно в мифопоэтическом аспекте 4.
Стоит отметить, что женщины-летчицы отличаются от своих былинных предков - богатырки близки природе: «Эти женские качества выдавали в эпических героинях “существа стихийные”, действительно напоминавшие безжалостные природные стихии и генетически тесно связанные с неистовством, непредсказуемостью, разрушительной энергией грозных сил природы» [Новиков, Перфилова, 2019, с. 103]. Образ военной летчицы не только вбирает в себя черты архаичных героинь, но и воплощает новый, соцреалистический тип. Строгость и спокойствие, характерные для положительного героя соцреализма, присущи описанным летчицам: «Перед ней вдруг возникло лицо Расковой, ясноглазое и строгое », «лейтенант Ра-кобольская, очень красивая и строгая и потому казавшаяся немного старше своих лет», «Лицо Расковой стало строгим », « Строгий командир , Серафима Амосова была вместе с тем хорошим товарищем, отзывчивым и добрым по натуре человеком», « мудрая и спокойная Евдокия Давыдовна, товарищ Бершанская, наш командир полка» [Чечнева, 1975]. Описание чувств также соответствует соцреалистическому канону: «Она любила нас высшей любовью: сознательной, строгой и справедливой » [Там же].
Мотив борьбы, соперничества проявляется в многочисленных эпизодах социализации женщины в традиционно мужском обществе: она вынуждена постоянно доказывать легитимность своего нахождения там. Быть не хуже, часто - лучше мужчин - очень важно для летчиц: «Ну что, подруга, покажем мужчинам, что и мы можем воевать не хуже сильного пола !»; «Амосова доказала маловерам, что профессия летчика одинаково доступна и мужчинам и женщинам !» [Там же].
В очерке «Высота» появляется мужской образ - возлюбленный Ларисы Розановой - Илья Литвинов, но мужем героини он становится только после войны.
Отложенный брак не единственный вариант биографии летчицы. В очерке «Испытание мужества» продемонстрирована иная сюжетная схема. Маша Акилина на момент начала войны - мать двоих детей и счастливая жена, однако она идет на фронт вслед за мужем. Вся семья Маши погибает, «стирается» ее женская биография, возникает мотив мести, характерный для образа девы-воительницы: «- Нет, товарищ гвардии подполковник. Никуда я не поеду. Мне нужно мстить . Понимаете? Мстить ...» [Там же]. Как истинные девы-воительницы, военные летчицы исключают из своей жизни мужчин до окончания войны. Продуктивными остаются только дружеские, практически сестринские отношения между самими женщинами. Стоит отметить, что принадлежность к типу девы-воительницы не является константой для героинь очерков: после войны жизнь боевых подруг мемуаристки возвращается в традиционное русло - они реализуются как жены и матери. Выходя за рамки описанного типа, героини очерков возвращаются в общество. Война для них - вынужденный этап биографии, необходимость, которая заставляет их на время изменить собственный статус.
Заключение
Итак, образ военной летчицы в мемуарной литературе близок к традиционному для русского эпоса типу девы-воительницы, однако в соответствии с соцреалистическим каноном летчица не воплощает лишь стихийную силу – она стремится к строгости, сознательности, дисциплине, что сближает ее с положительным героем литературы соцреализма. Кроме того, героиня вписывается в парадигму советских женских типов, наследуя значимые черты ко-миссарш, революционерок, и это подчеркивается актуализировавшейся в военной литературе гендерной инверсией. Даже номинация, закрепившаяся за летчицами, парадоксальным образом способствует включению «ночной ведьмы» в систему соцреалистических персонажей.
Список литературы «Ночная ведьма», дева-воительница, советская женщина: образ военной летчицы в литературе соцреализма (М. Чечнева «Боевые подруги мои»)
- Балина М. Р. Какой-то «непроявленный жанр»: мемуары в литературе соцреализма // Советское богатство. Статьи о культуре, литературе и кино. СПб.: Академический проект, 2002. С. 241–259.
- Бобров Н. Н. Дочери Родины // Сталинский сокол. 1945. № 20 (318). С. 4
- Гройс Б. Е. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом. М.: Знак, 1993. 250 с.
- Добренко Е. А. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. München: Sagner, 1993. 405 с.
- Добренко Е. А. Политэкономия соцреализма. М.: НЛО, 2007. 592 с.
- Дунай и Добрыня сватают невесту князю Владимиру // Былины. М.: Сов. Россия, 1988. С. 76–86.
- Женитьба Добрыни // Былины. М.: Сов. Россия, 1988. С. 64–67.
- Загидулина Т. А. Ни ввысь, ни свыше: авиационный дискурс в русской литературе 20–30-х годов XX века. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2019. 208 с.
- Зусева-Озкан В. Б. Дева-воительница в литературе русского модернизма: образ, мотивы, сюжеты. М.: Индрик, 2021. 712 с.
- Калкаева А. Е. Ведьмы в сказочных сюжетах сборника братьев Гримм «Kinder- und Haus- märchen»: атрибуты и функции // Вестник культурологии. 2021. № 2 (97). С. 32–51. DOI 10.31249/hoc/2021.02.02
- Кларк К. Положительный герой как вербальная икона // Соцреалистический канон: Сб. ст. / Под общ. ред. X. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 569–584.
- Ковтун Н. В. Женщины революции: от Даши Чумаловой к «комиссаршам» Валентина Распутина // Русская культура под знаком Революции. Дальний Восток, близкая Россия: Сб. науч. ст. Белград; Сеул; Саитама, 2018. Вып. 2. С. 32–49.
- Ковтун Н. В. Утопия соцреализма и гностицизм. К постановке проблемы // Европейские исследования в Сибири: Материалы Всерос. науч. конф. «Мир и общество в ситуации фронтира: проблемы идентичности». Томск, 2004. Вып. 4. С. 247–265.
- Круглова Т. А. Советская художественность, или Нескромное обаяние соцреализма. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2005. 384 с.
- Куляпин А. И. Одна: советская женщина в литературе и культуре тридцатых годов // Филология и человек. 2011. № 4. С. 158–164.
- Наволоцкая Д. И. Восприятие образа стахановки: фанатские письма Дусе Виноградовой (1935–1936 годы) // Вестник Перм. гос. ун-та. История. 2021. № 52 (2). С. 160–172. DOI 10.17072/2219-3111-2021-2-160-172
- Нефедов И. В., Макарова И. В. Инвективная функция русской мифолексемы «ведьма» (на материале фольклорных и лексикографических источников) // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. Ростов н/Д: Дон. кн. изд-во, 2017. С. 54–60.
- Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Маскулинность и женственность героев народного эпоса в трактовке Ф. И. Буслаева // Вестник Костром. гос. ун-та. 2019. Т. 25, № 2. С. 102–107. DOI 10.34216/1998-0817-2019-25-2-102-107
- Паперный В. З. Культура Два. М.: НЛО, 2011. 408 с.
- Селезнева В. В. Архетип ведьмы в структуре женских образов романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Стриж: Студ. электрон. журн. 2017. № 1 (12). С. 52–56.
- Скубач О. А. Неженская Арктика: сюжет о героине-полярнице в советской культуре 1920–1930-х годов // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 338–350. DOI 10.25205/2307-1737-2020-1-338-350
- Соцреалистический канон: Сб. ст. / Под общ. ред. X. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. 1040 с.
- Чечнева М. П. Боевые подруги мои. М.: ДОСААФ, 1975. 471 с. URL: http://militera.lib.ru/ bio/chechneva_mp/index.html (дата обращения 08.09.2023).
- Шверхофф Г. От повседневных подозрений к массовым гонениям. Новейшие германские исследования по истории ведовства в начале Нового времени // Одиссей. Человек в истории. Ремесло историка на исходе XX века. М.: Coda, 1996. С. 306–330.
- Якушева Г. В. Мемуары // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001. С. 524–525.