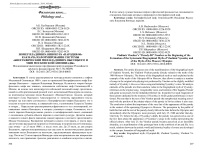Номер Владимира Винокура "Пародия-80" как начало формирования системы "Биографический миф Владимира Высоцкого и миф московской олимпиады"
Автор: Безбородов Александр Борисович, Белоусов Лев Сергеевич, Доманский Юрий Викторович, Пешин Николай Леонидович, Шкаренков Павел Петрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Филология плюс…
Статья в выпуске: 3 (46), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается непосредственно связанное с мифом Московской Олимпиады 1980 г. одно из проявлений биографического мифа Владимира Высоцкого - пародия Владимира Винокура. Излагается теория биографического мифа как такового, описывается собственно миф Олимпиады-80 в Москве, на основе чего анализируется небольшой песенный номер, представляющий из себя оригинальный ролевой текст, исполненный Винокуром на несколько измененную мелодию песни Высоцкого «Москва-Одесса» голосом, который имитирует голос Высоцкого. Анализируются те элементы пародийного текста, которые так или иначе соотносятся с биографическим мифом Высоцкого: это и отсылки к песне-источнику, и узнаваемый голос, и упоминание Театра на Таганке и гитары… Параллельно рассматриваются фрагменты из тех стихотворений, посвященных памяти Высоцкого, в которых упомянута гитара. Отмечается, что в тексте пародии Винокура можно увидеть и метафорический смысл, связанный с положением субъекта-объекта пародии в советской культуре. Делается вывод о важности самого факта появления данной пародии в контексте предстоящей в Москве Олимпиады. Восприятие публикой и самого этого факта, и текста пародии отчетливо распадается на время до Олимпиады и на время после Олимпиады; еще точнее - до 25 июля 1980 г. и после этого дня. До 25 июля, до дня смерти Высоцкого, пародия воспринималась как еще один из немногочисленных фактов появления песен Высоцкого на носителях, представляющих официальную культуру. После же 25 июля пародия Винокура стала восприниматься как невероятная нелепость, как проявление гротеска, рожденного в симбиозе искусства и жизни. В итоге между художественным миром и физической реальностью складываются отношения, благодаря которым и формируется биографический миф.
Биографический миф, олимпиада-80, владимир высоцкий, владимир винокур, пародия
Короткий адрес: https://sciup.org/149127080
IDR: 149127080 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00051
Текст научной статьи Номер Владимира Винокура "Пародия-80" как начало формирования системы "Биографический миф Владимира Высоцкого и миф московской олимпиады"
Биографический миф, как известно, во многом базируется на мифе автобиографическом, который определяется Д.М. Магомедовой как «исходная сюжетная модель, получившая в сознании автора онтологический статус, рассматриваемая им как схема собственной судьбы и постоянно соотносимая со всеми событиями его жизни, а также получающая многообразные трансформации в его художественном творчестве» [Магомедова 1998, 7. Курсив автора работы]. В русской культуре широкое распространение получила идея о том, что жизнь можно моделировать по законам художественного произведения, и уже для Пушкина «создание биографии было постоянным предметом столь же целенаправленных усилий, как и художественное творчество» [Лотман 1992, 371]. Писатели, как заметил Б.В. Томашевский в 1923 г, создавали «себе искусственную биографию-легенду с намеренным подбором реальных и вымышленных событий» [Томашевский 1923, 6-7], а эти «биографические легенды являлись литературным осмыслением жизни поэта, необходимым как ощутимый фон литературного произведения <.. > своим созданиям поэт предпосылал не реальную <...> биографию, а свою идеальную биографическую легенду» [Томашевский 1923, 8]. Таким образом, биографический миф творится в первую очередь самим художником, который строит, а вместе с тем и мифологизирует собственную судьбу. Но, конечно же, участвует в создании этого мифа и аудитория, что делается особенно заметным после смерти художника: «...на место значимых для автора моментов и форм самопонимания биограф <...> готов подставить собственные, принятые в его культуре и чаще всего - вполне трафаретные, анонимные, освоенные им в процессе обучения и через жизненный опыт <.. > нормы интерпретации» [Дубин 1995,28]. Под биографом в данном случае может пониматься и аудитория художника: хотя «модель биографии нового времени <...> задает автобиография» [Дубин 1995,29], именно аудитория выступает в роли соавтора биографического мифа, своеобразно интерпретируя и собственно творчество, и высказывания художника, и сведения о его жизненном пути. Таким образом, биографический миф оказывается безусловно шире мифа автобиографического, ибо творится в соавторстве, являет собой акт сотворчества художника и читательской аудитории. И не случайно в целом ряде работ «предметом исследования становится биографическая легенда , создаваемая самим автором (и в какой-то мере его читателями)» [Магомедова 1998, 3]. В самостоятельную проблему в русле биографического мифа выделяется и смерть художника, не завершающая миф, а становящаяся его новой главой, которая самым существенным, иногда радикальным образом трансформирует все, что было в биографическом мифе ранее.
История культуры знает как минимум два географически-историче-ских отрезка, когда биографические мифы особенно актуализировались -это европейский (в том числе - русский) романтизм и Серебряный век русской культуры. Романтики стремились «все поступки рассматривать как знаковые» [Лотман 1988, 168], а «сама действительность спешила подражать литературе» [Лотман 1988, 174]. В романтизме «канон биографии лирического поэта» [Томашевский 1923, 7] дал Байрон. Эстетизировали романтики и смерть - не только в творчестве, но и в жизни: достаточно вспомнить реакции «аудитории» на уход Клейста или Байрона - «уже во времена Байрона стало ясно, что искусством могут быть не только картины, книги, ноты, но и стиль жизни. Тем более - смерти» [Чхартишвили 1999, 428]. Эстетезировалась смерть и в русской культуре Серебряного века, что было связано с общей установкой на мифологизацию биографии, где смерть обрела совершенно особое значение. Но идея мифологизации биографии отнюдь не завершилась с Серебряным веком, продолжилась она в мировой культуре (и русской в том числе) и впоследствии.
Мы коснемся одной грани заявленной проблемы, даже не грани, а одного небольшого элемента огромной системы «биографического мифа» Высоцкого - того мифа, который активно формировался при жизни поэта (как им самим, так и публикой) и который в еще большей степени складывался после смерти Высоцкого; формируется он и по сей день. Появление этого элемента оказалось обусловлено тем, что Высоцкий умер в самый разгар Московской летней Олимпиады 1980 г. Такое «совпадение» не могло не воплотиться в самых разных «текстах» о Высоцком. Вот простой пример из воспоминаний Марины Влади о дне смерти Высоцкого: «Москва пуста. Олимпийские игры в разгаре. Мы знаем, что ни пресса, ни радио ничего не сообщали о твоей смерти - лишь четыре строки в вечерней московской газете» [Влади 1989, 331]. Или одна деталь из воспоминаний о похоронах Высоцкого актера и режиссера Михаила Козакова: «...хорошо, что этих, в синих олимпийских рубашках, много...» [Козаков 1989, 337]; под «этими» подразумеваются милиционеры, в большом количестве дежурившие на похоронах Высоцкого.
Обозначив таким образом проблему, позволим себе очень коротко описать «миф» Московской Олимпиады. Наблюдения общего свойства показывают, что у этого «мифа» две грани, которые были эксплицированы еще в 1980 г.
Первая из них - официальная: Олимпиада - праздник спорта; бойкотирующие Олимпиаду США и другие капиталистические страны оцениваются негативно (спустя четыре года - в 1984 г. - страны социалистического лагеря будут бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе); в Москве много гостей, которых надо встречать хорошо, а значит, в городе появился ряд прежде невиданных продуктов: финские соки, жевательная резинка, новые сорта колбасы... Повсюду талисман Олимпиады - Медведь, «Мишка олимпийский», как ласково называют это улыбающееся, большеголовое и ушастое существо. К этой же грани можно отнести множество бодрых песен и стихов о спорте, олимпийские новостройки в столице - так называемая Олимпийская деревня.
Другая грань - обратная сторона медали: негативное отношение к Олимпиаде инакомыслящих, полагающих, что за внешним антуражем праздника в еще большей степени обнажаются «социальные язвы» советского общества. Для жителей СССР Москва в дни Олимпиады - закрытый город, а многих москвичей - прежде всего тех, кого власти считают так называемыми деклассированными элементами, - на время проведения игр высылают из Москвы при помощи милиции.
В дальнейшем, если судить, например, по отечественным средствам массовой информации, то та, то другая грань «олимпийского мифа» оказывается превалирующей в оценке Москвы-80: в годы перестройки получила распространение преимущественно негативная оценка; в последнее же время государственные СМИ пытаются поддержать распространенную в некоторых общественных слоях ностальгию по тем временам: то покажут улетающего в небеса надувного олимпийского Мишку на церемонии закрытия игр под песню «На трибунах становится тише...», то в рекламе какого-то быстрорастворимого супа пожилой господин вспомнит, как впервые отведал этот суп в дни московской Олимпиады. Видимо, такого рода ретро-реанимация была актуальна в связи с Олимпийскими Играми в Сочи, прошедшими в 2014 г. Но речь не об этом - речь о том, что и тогда, и теперь олимпийский миф и биографический миф Высоцкого довольно тесно переплетаются. Наша задача в данной работе описать один текст, в котором взаимодействуют два названных мифа. И текст этот можно считать первым в череде всех прочих текстов, где Олимпиада и Высоцкий связаны неразрывно, ведь создан и обнародован он был до Олимпиады-80 и, соответственно, до смерти Высоцкого.
В 1980 г, в преддверье Олимпиады на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» вышла долгоиграющая пластинка Владимира Винокура «Пародия-80» (Официальный номер: С 60-13279-80; общее время звучания 42 минуты 4 секунды). Вот состав этой пластинки (в скобках указаны авторы «треков»):
01. Пародия-80
(А. Левин, Г. Минников)
02. Я Отдыхаю
(Л. Измайлов)
03. Старшина
(Л. Якубович, М. Кочин)
04. Жертва Гипноза
(Е. Смолин).
«Треки» 2, 3 и 4 представляют из себя юмористические монологи, к Олимпиаде отношения не имеющие. Первый же «трек», давший название всему диску и явно отсылающий к стандартной для той поры формуле «Олимпиада-80», представляет из себя длящийся 16 минут 19 секунд эстрадный номер, состоящий из песенных и просто словесных пародий на популярных советских артистов
Номер записан с концерта (слышен смех в зале, раздаются аплодисменты) и предваряется словами Винокура: «Приближаются олимпийские игры, готовятся спортсмены, строители и, конечно, мы, артисты». Дальше идут сами пародии - привычный впоследствии набор пародируемых Владимиром Винокуром персон: Борис Штоколов, Анатолий Папанов, военный ансамбль песни и пляски, Геннадий Хазанов, Муслим Магомаев, Николай Сличенко, Лев Лещенко. Общая тема всех пародий - спорт. Почти все сегменты номера поются или произносятся от первого лица и посвящены не просто спорту, а тем или иным конкретным его видам (велоспорт, фигурное катание, баскетбол, футбол), и почти во всех пародиях изображаемые артисты или их, скажем так, ролевые герои (как в случаях с пародиями на Папанова, где тот представлен в привычном для многих голосовом образе Волка из мультфильма «Ну, погоди!», или на Хазанова, представленного в не менее знакомом советскому человеку ролевом образе студента кулинарного техникума) мечтают о том, как они займутся спортом, или же пытаются реализовывать себя на спортивном поприще, что иногда у них даже получается, пусть и порою несколько парадоксальным образом. Так, например, Волк и Заяц из пародии на Папанова заняли первое место на соревнованиях по фигурному катанию, обойдя необычайно популярную в то время пару фигуристов - Ирину Роднину и Александра Зайцева, но не потому, что хорошо исполнили танец, а потому что их тренер - Жук - строго посмотрел на судей.
Среди пародий данного номера Винокура есть и песенная пародия на Высоцкого. В номере она звучит третьей (после песенной пародии на Штоколова и пародии на Папанова и перед пародией на Хазанова) и предваряется словами Винокура: «Наверняка много песен на олимпийских играх прозвучит в сопровождении гитары» (некоторые другие номера тоже предваряются подобного рода словесными вступлениями автомета-паратекстуального характера). Музыкальная, точнее сказать, ритмически-мелодическая основа - песня Высоцкого «Москва-Одесса», исполненная в маршевом ритме. Вот словесный текст этой пародии:
Ищу билетик лишний я три дня, Поддавшись олимпийскому угару. Нет на трибунах места для меня, А тут мне скажут: «Лезет он с гитарой».
Гимнастику люблю, но там содом.
На корты не пройти - людская стенка. Я не могу попасть на ипподром -Билеты закупил туда Сличенко.
На штангу пробиваюсь я с утра.
В бассейн не попаду, хотя он рядом. Свободен только сектор для ядра -Там наших нет и мне туда не надо.
Ну что за невезучая судьба -Забиты стадионы спозаранку. И я иду, куда несет толпа,
И попадаю с нею на Таганку.
Ни в тексте, ни в автометапаратекстуальном вступлении Высоцкий нигде не назван, но это и не нужно в пародии - узнаваемость, как и положено в звучащем (аудиальном) изводе данного вида искусства, продуцируется голосом. Начнем разговор об этой пародии с музыкального текста-источника и его ритмической трансформации на пластинке «Пародия-80». Легкая и мелодичная в оригинале «Москва-Одесса» звучит у Винокура как марш, довольно, надо сказать, жесткий. Видимо, такой ритм был выбран пародистом (или авторами пародии) по той причине, что в маршевом звучании в большей степени можно представить уникальный голос пародируемого - Владимира Высоцкого. Слушатель должен узнать объект пародии не столько по песне, сколько именно по голосу, а для экспликации этого голоса - уникального, узнаваемого - больше подходит как раз марш. На вербальном уровне текст-источник в пародии реализован через один из его мотивов - речевой субъект не может попасть туда, куда ему хочется. В песне «Москва-Одесса» он находится в аэропорту и ждет, когда будет вылет на Одессу; всюду улететь можно, а Одесса из-за погодных условий не принимает. И тогда субъект песни решает лететь «туда, где принимают». Словесный текст пародии Винокура сделан по тому же принципу: субъект не может попасть туда, куда ему хочется. Разница (и существенная) в том, что, во-первых, хочет он не в одно место, как в тексте-источнике, а во много разных мест (на гимнастику, на ипподром, на штангу, в бассейн); и во-вторых, не хочет он только в одно место - в сектор для ядра, тогда как в тексте-источнике субъекту предложено множество городов, куда можно улететь из Москвы (Мурманск, Ашхабад, Киев, Харьков, Кишинев, Тбилиси, Владивосток, Лондон, Дели, Магадан...), но ни в один из них ему не надо, потому что надо только в Одессу.
Еще один важный, на наш взгляд, момент, касающийся выбора для пародии, вышедшей на пластинке фирмы «Мелодия», именно этого текста-источника, песни «Москва-Одесса», связан с тем, что эта песня - одна из немногих официально изданных в Советском Союзе в авторском исполнении. При жизни Высоцкого в нашей стране вышло всего лишь семь его персональных пластинок-миньонов (все они выходили с 1968 по 1975 гг. Справедливости ради нельзя не сказать, что песни Высоцкого включались в выходящие на «Мелодии» разного рода виниловые сборники, типа «Песни советского кино» или «Друзьям-однополчанам», и звучали на пластинках, на которых были записаны спектакли, чаще всего - радиоспектакли с участием Высоцкого (самый, пожалуй, известный - «Алиса в стране чудес»), Однако и этих пластинок было совсем мало). И «Москва-Одесса» была на двух из них: на гибкой пластинке «В. Высоцкий. Песни» (Код Г62-04737, Г62-04738; состав: Сторона 1 «Кони привередливые», Сторона 2 «Скалолазка», «Москва-Одесса») и на виниловой пластинке «Песни Владимира Высоцкого» (Код М62-37515, М62-37516; состав: Сторона 1 «Она была в Париже», «Кони привередливые», Сторона 2 «Скалолазка»,
«Москва-Одесса»). Обе пластинки вышли в 1975 г. и были во многих советских семьях. Остается добавить, что песни на этих пластинках звучали не под привычную в случае Высоцкого семиструнную гитару, а в сопровождении ансамбля «Мелодия» под управлением Г. Гараняна. Думается, что официальное издание песни «Москва-Одесса» стало поводом (или одним из поводов) для того, чтобы именно ее использовать в качестве музыкальной основы для пародии артистом и последующего издания на «Мелодии».
В пародии помимо отсылок к песне-источнику можно увидеть и некоторые черты биографического мифа Высоцкого, сформировавшиеся при жизни поэта. Прежде всего, это упомянутая уже во вступлении к пародии гитара («Наверняка много песен на олимпийских играх прозвучит в сопровождении гитары»); гитара упоминается и в первом куплете пародии («А тут мне скажут: “Лезет он с гитарой”»). Прижизненный извод биографического мифа Высоцкого непременно включал в себя гитару. И хотя зачастую записи делались в сопровождении оркестра, тем не менее, со сценическим образом Высоцкого тесно переплелась именно гитара. Связано это с его многочисленными сольными концертами под гитару, а также с желанием отнести поэта к определенному направлению в искусстве -к авторской (или, как еще ее называли, бардовской) песне, для которой гитара была непременным атрибутом. И сразу после смерти Высоцкого гитара тоже оказалась востребована биографическим мифом; во всяком случае, бытовали устные рассказы «очевидцев» о том, что в гроб Высоцкому положили гитару, а дорога от Таганки до Ваганькова была вся гитарами устелена. В традиции поэтических некрологов Высоцкому гитара тоже достаточно часто встречается. Вот лишь несколько примеров-отрывков:
Вся олимпийская столица склонилась скорбно пред тобой, И белый гроб парит, как птица, над обескровленной толпой. Но вот и все - по божьей воле Орфей теперь спокойно спит, И одинокая до боли гитара у двери стоит.
(Из стихотворения Тамары Павловой, иногда приписывается Евгению Евтушенко)
Склонились у ног его боги и бесы, Ведь даже они не поверили смерти. Гитара под утро озябнет без песни. Согрейте ее - бога ради! Согрейте! (Неизвестный автор)
Тишина... Тихо падает лист на промокшую землю...
Скорбь природы выплакивается проливным, моросящим дождем...
Почернела гитара от дождя иль от слез, словно дремля, Как подруга тоскует о нем! Все о нем и о нем!
(Неизвестный автор)
Не был ты любимым фортуной,

И болел тем, чем мы болели. На гитаре твоей не струны -Обнаженные нервы звенели.
Выходя на сцену вразвалицу, Из себя не корча мессию, Ты держал в своих чутких пальцах Гриф гитары и пульс России. (Андрей Вознесенский)
А как тут жизнь в вине не утопить, Коль мир такой порочный и бездушный? Гитара в розах, ты сгорел «в огне», Что будет с нами, стадом равнодушных?
Не уходи! Не покидай мой город! Он без тебя тобой не будет полон, Без струн твоей гитары и без песен Он будет неудобен, будет пресен. (Марина Влади)
Наряду с гитарой не менее важным элементом биографического мифа Высоцкого и в прижизненном, и в посмертном изводе оказывается Театр на Таганке, часто обозначаемый топонимической метонимией «Таганка». В пародии Винокура этот элемент не просто оказался востребован, но занял место в сильной позиции, в финале всего текста:
И я иду, куда несет толпа, И попадаю с нею на Таганку.
Действительно, образ Высоцкого и при жизни, и потом для многих соотносился с Таганкой. И если Высоцкий-певец, Высоцкий-поэт не был официально признан в Советском Союзе (пластинок было наперечет, книг не было вовсе, журнальная публикация была лишь одна), то Высоцкий-актер, служивший в государственном театре и снимавшийся на государственных киностудиях, находился во вполне официальном статусе. Вероятно, такой статус и позволил в официально изданной пародии поставить связанный с Высоцким топоним в сильную позицию.
Таким образом, в пародии Винокура присутствуют характерные для биографического мифа Высоцкого и для его образа в сознании аудитории знаки - гитара и Таганка. Помимо этого укажем на еще один важный момент, данный в этой пародии уже не в виде прямой экспликации, а, скажем так, подспудно, имплицитно. Ключевая мысль всего текста пародии на Высоцкого заключается в том, что речевой субъект, под которым подразумевается сам объект пародии (действительно, аудиальные пародии обычно строятся на том, что речевой субъект оказывается одновременно и па-214
родируемым объектом), во время Олимпиады не может попасть туда, куда он хочет, те. почти никуда. Зная репутацию Высоцкого среди советских людей, представить такое невозможно - известно, что популярность поэта открывала любые двери. Те. в реальности того, что происходит в пародии, случиться, разумеется, не могло. Не могло, если речь идет о прямом значении - Высоцкий не может попасть на спортивные соревнования. Однако если представить ситуацию пародии Винокура как метафору, то тогда описанное в песне в полной мере представимо в реальности. Речь может идти о метафоре положения Высоцкого относительно официальной культуры: песни и стихи не издаются, роли в кино далеко не всегда достаются те, какие хочется и каких заслуживает; короче - «нет на трибунах места для меня», или из текста пародируемого оригинала: «отсюда не пускают, а туда не принимают». Исключение составляют только театральные работы, но это всего лишь исключение, а все остальное - правило. Таким образом, в тексте пародии Винокура можно увидеть и метафорический смысл, связанный с положением субъекта-объекта пародии в советской культуре. Это не значит, что смысл этот осознанно вводился авторами пародии, но вовсе не отменяет того, что данный смысл может актуализироваться при рецепции.
Однако куда как важнее всего вышесказанного для биографического мифа Высоцкого сам факт появления данной пародии в контексте предстоящей в Москве Олимпиады. Восприятие публикой и самого этого факта, и текста пародии отчетливо распадается на время до Олимпиады и на время после Олимпиады; еще точнее - до 25 июля 1980 г. и после этого дня. До 25 июля, до дня смерти Высоцкого, пародия воспринималась как еще один из немногочисленных фактов появления песен Высоцкого на носителях, представляющих официальную культуру. Дело в том, что каждый факт из этого ряда ввиду малого их количества понимался как непременно нечто значительное, как нечто важное и заслуживающее внимания, как то, что можно свернуть до фразы «Песни Высоцкого разрешили в Советском Союзе». Тем более что на пластинке Винокура не просто пародия на Высоцкого, стоящая отдельным номером, а пародия в контексте других пародий, субъектами-объектами большинства из которых выступают официальные лица советской популярной культуры; эти лица - частые гости на телевидении, их зовут участвовать в концертах к государственным праздникам, они сопровождают советских спортсменов на важных турнирах - Штоколов, Магомаев, Сличенко, Лещенко, Хазанов, даже военный ансамбль песни и пляски. И вдруг Высоцкий среди них. Те. по одному этому факту -факту появления пародии на Высоцкого на пластинке «Мелодии» можно было сделать вывод о предстоящем очень скоро признании Высоцкого-певца (в этой связи очень важно упоминание гитары в пародии) и, может быть, Высоцкого-поэта. Случилось бы таковое или же нет, мы никогда не узнаем (разве что обнаружится директива КГБ, согласно которой с такого-то числа такого-то года певца и поэта Владимира Высоцкого следует считать официально признанным) - случилось же то, что случилось: 25 июля,
в разгар Олимпиады в Москве Высоцкого не стало. С этого момента и пародия Винокура стала восприниматься не так, как воспринималась до этого дня. Теперь пародию Винокура можно осмыслить как невероятную нелепость, как проявление гротеска, рожденного в симбиозе искусства и жизни: Высоцкий в тексте пародии занят тем, что во время Олимпиады стремится попасть на соревнования, но у него это не получается (ситуация применительно к физической реальности, как мы отметили выше, абсурдная); Высоцкий в реальном мире во время Олимпиады умирает. И смерть Высоцкого для многих советских граждан становится самым главным событием в период Московской Олимпиады. И только толпа и в пародии, и в мире реальном устремлена в одно и то же место - на Таганку. Так между художественным миром и физической реальностью складываются отношения, благодаря которым и формируется биографический миф. Владимир Винокур же, многократно пародируя в последующие годы всех тех, кого он избразил в номере «Пародия-80», никогда больше, насколько нам известно, Высоцкого не пародировал.
Список литературы Номер Владимира Винокура "Пародия-80" как начало формирования системы "Биографический миф Владимира Высоцкого и миф московской олимпиады"
- Влади М. Прощание // Вспоминая Владимира Высоцкого. М., 1989. С. 330-334.
- Дубин Б.В. Биография, репутация, анкета (о формах интеграции опыта в письменной культуре) // Биографический альманах. Вып. 6. М.; СПб., 1995. С. 7-31.
- Козаков М. Пришли все // Вспоминая Владимира Высоцкого. М., 1989. С. 336-338.
- Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 158-205.
- Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (к типологическому соотнесению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992. С. 365-376.
- Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве Александра Блока: дис. в виде научного доклада … докт. филол. наук: 10.01.01. М., 1998.
- Томашевский Б. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4 (28). С. 6-9.
- Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М., 1999.