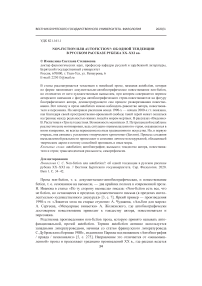Non-fiction или autofiction? Об одной тенденции в русском рассказе рубежа ХХ-ХХІ вв
Автор: Имихелова Светлана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается тенденция в новейшей прозе, названая autofiction, которая по форме напоминает документально-автобиографическое повествование non-fiction, но отличается от него художественным вымыслом, при котором совершается перенос авторского внимания с фигуры автобиографического героя-повествователя на фигуру биографического автора, демонстрирующего сам процесс разворачивания повествования. Вот почему в прозе autofiction можно наблюдать равенство автора, повествователя и персонажа. На материале рассказов конца 1990-х - начала 2000-х гг. показано, как благодаря своей пространственно-временной свободе такой герой может оказаться на границе между реальностью живых людей и миром мертвых. В рассказах «Видение» В. Распутина и «Три путешествия. Возможность мениппеи» Л. Петрушевской ослаблены реалистические мотивировки, ведь ситуация «невымышленного» героя, оказавшегося в ином измерении, не всегда переводима на язык традиционного искусства. Но, в первую очередь, она связана с усилением «творческого хронотопа» (Бахтин). Процесс создания вымышленной реальности происходит в сознании личности незаурядной, обладающей творческим даром и потому способной проникать в иные миры.
Автобиография, вымысел, тождество автора, повествователя и героя, трансцендентная реальность, саморефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/148317737
IDR: 148317737 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Non-fiction или autofiction? Об одной тенденции в русском рассказе рубежа ХХ-ХХІ вв
Имихелова С. С. Non-fiction или autofiction?: об одной тенденции в русском рассказе рубежа ХХ–ХХI вв. // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 34–42.
Проза non-fiction, т. е. документально-автобиографическая, и повествование fiction, т. е. основанное на вымысле, — два крайних полюса в современной прозе. Н. Иванова в статье «По ту сторону вымысла» писала: «Non-fiction есть все, что не fiction, но остающееся в пределах художественного письма (в пределах интеллектуально-художественного дискурса)» [3, с. 7]. Яркий пример — произведения 1990-х гг. «Ложится мгла на старые ступени» А. Чудакова, «Альбом для марок» А. Сергеева, «Мемуарные виньетки» А. Жолковского, где автобиографически достоверное повествование приводит к тождеству автора, повествователя и персонажа.
Родственна произведениям non-fiction проза, которую принято называть авто-фикциональной, прозой autofiction. Термин autofiction активно используется западными литературоведами, начиная со статьи французского литературоведа С. Дубровски в сборнике 1988 г., изданном в Париже под названием «Автобиография / правда / психоанализ» [5, с. 275]. Направление это отличается от «невымышленной» прозы и продолжает традицию произведений ХХ в., где рассказ ведется 34
от лица автобиографического героя и при этом автор на документальной достоверности не настаивает, определяя жанр произведения как роман или повесть, рассказ или поэму. Назовем такие произведения 1920–1930-х гг., как «Конармия» И. Бабеля, «Жизнь Арсеньева» И. Бунина, «Театральный роман» М. Булгакова, «Труды и дни Свистонова» К. Вагинова, где герои носят вымышленные имена, но обязательно тесно соотнесены с личностью и жизнью биографического автора. Позднее, в постмодернистскую эпоху, герою такой автофикциональной прозы демонстративно присвоено имя автора: это «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева, «Это я – Эдичка» Э. Лимонова, «Ремесло» и «Наши» С. Довлатова, «Душа патриота, или различные послания Ферфичкину» Е. Попова; еще позднее, в конце 1990-х — начале 2000-х гг., романы «Трепанация черепа» С. Гандлевского, «Марбург» С. Есина, «Вор, шпион, убийца» Ю. Буйды, «Грех» З. Прилепина выводят героя — не просто аlter ego автора, но обязательно носящего его имя. «Я»-повествование в них соотносится с автобиографическим контекстом и создает в автобиографическом «Я» иллюзию равенства автора, повествователя и героя.
Перволичное повествование, которое использует в художественном дискурсе приемы документально-автобиографической прозы, т.е. приемы non-fiction, или, наоборот, экстраполирует вымысел на автобиографический текст, — это и есть проза autofiction. Л.Я. Гинзбург определяла такие произведения как автопсихоло-гическую прозу [2, с. 315–316]. То есть уже нет доминирующей тенденции зашифрованного, «тайного» присутствия автора в мире текста, а есть тяга к намеренной экспликации авторского участия в вымышленном сюжете.
Проза autofiction ставит перед исследователем ряд вопросов: как подлинность автобиографии (собственной «реальной жизни» автора) становится «литературой», вымышленной реальностью повествования; каким образом автобиография в такой прозе обретает сюжетообразующий потенциал, ведь в автобиографической прозе необходимо умение вычленить сюжет из текучей, хаотичной действительности. Такой сюжет блестяще продемонстрирован в «Других берегах» В. Набокова, и это сюжет литературный, где автопсихологический герой познает себя, свое непрерывно становящееся «Я», которое постоянно ускользает в повествовании, и часто непонятно, кто этот «Я»: биографический автор или вымышленный герой с автобиографической привязкой.
Востребованность подобных произведений понятна. Проблема границ «Я» и «не-Я», несовпадения «реального» и «воображаемого» «Я», опознания собственного «Я» только в «Другом» и через «Другого» (в терминах Ж. Лакана и П. Рикера) — одна из центральных в философии и эстетике ХХ в. В современной культуре представление о раздробленности «Я», недостижимости тождества субъекта сознания с самим собой, утрате аутентичности стало едва ли не общим местом. И здесь проза autofiction представляет собой процесс авторефлексии, обращения писателя к различным формам личностной и творческой саморефлексии для осмысления собственного «Я» как художника, творческой личности.
Особенности такой прозы чаще всего проявляются в романе, где мнение и знание «Я» повествователя может постоянно изменяться на протяжении текста [5, с. 285]. В малой же эпической форме уровень компетенции автофикциональ-ного героя одинаков во всех эпизодах до самого финала-пуанта. Интересно сравнить примеры, взятые из различных, даже противоположных рядов литературного процесса — рассказы традиционалиста В. Распутина «Видение» (1997), «В непогоду» (2003) и модернистский рассказ «Три путешествия. Возможность мениппеи» (2001) Л. Петрушевской, поэтика которых предельно сближена с особенностями прозы autofiction.
Надо сказать, что к autofiction в жанре рассказа Распутин обращался и раньше, в рассказе «Что передать вороне» (1981). Был подобный опыт еще и в повести «Вниз и вверх по течению. Очерк одной поездки» (1972): герой — молодой писатель едет на родину после затопления его родной деревни и размышляет о творчестве, писательстве, но у него вымышленное имя Виктор и рассказ ведется в объективной манере от лица повествователя. Но именно в рассказах перволичной формы тематизация процесса творчества у Распутина зримо выступает как поиск личностной самоидентификации, придает повествованию видимость повествования документально-публицистического, эссеистического, такого как в очерках писателя «Вопросы, вопросы» (1987–2007), «Откуда есть-пошли мои книги» (1997).
В рассказе «Видение» признание героя является одновременно признанием автора, как в очерке или эссе: «...мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, и как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыграться не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем» [11, с. 448]. Вместе с тем создается впечатление, что перед нами фрагмент не очерка, а постмодернистского повествования, основанного на творческой рефлексии автобиографического героя.
Рассказы «Видение» и «В непогоду», хотя и отличаются от повести «Вниз и вверх по течению» перволичной формой, в то же время все они — это повествования о процессе творчества, и в их центре герой, не просто находящийся в состоянии творческой саморефлексии, но еще и постигающий тайну жизни и смерти. Во время поездки по Ангаре герой повести-очерка вспоминает начало своего писательства, свой первый рассказ об умирающем старике, первые критические высказывания в свой адрес, и в его памяти возникает также сон, где ему привиделся некто прозрачный, т. е. умерший, который высказывал предупреждение «не ходить дальше своих сил», не писать о том, «чего ты не можешь знать», т. е. о смерти. Здесь автобиографическая отсылка к началу творческого пути — рассказу «Старуха», написанному писателем в 1961 г., обращает внимание на основополагающий для Распутина мотив тайны жизни и смерти, связанный с волнующей писателя биографической темой «прощания с Матерой». И. И. Плеханова, говоря о метафизическом, иррациональном характере распутинского творчества, заметила, что поездка на затопленную родину в повести «Вниз и вверх по течению» воспринимается как путешествие в иной мир [9, с. 182].
В более поздних повествованиях Распутина вновь проявляется эта особенность — акт творческой рефлексии соседствует с размышлениями о пограничном, переходном состоянии между жизнью и смертью. В рассказе «В непогоду» герой-писатель признается: «К уходу, к этому священному и окончательному событию, к событию, прекращающему твое земное бытие, надо подготовиться. Не в гости идешь. Подвести итоги, выслушать чистосердечное сказание о твоей жизни, тобою же сказанное... Что же после этого пугаться, если веришь, что после оставляемых трудов и детей-внуков уходишь ты из бытия во всебытие, в единое и вечное крепление, которым держится земная жизнь?» [10, c. 434].
В сознании героя рассказа «В непогоду» неразрывно сосуществуют мир живых и иное измерение, когда он ведет разговор с предками, прежде всего, с оставшимися под пучиной вод на затопленных ангарских кладбищах. Их присутствие в звуках бушующей стихии сродни общению в бодрствующем сне Виктора, героя «Очерка одной поездки», с душами умерших или в видении героя из рассказа «Что передать вороне», встречающего по дороге в иной мир души и голоса умерших друзей. Эти произведения, осмысляющие как больные общественные вопросы, так и бытийный, метафизический опыт, объединены общим содержанием одной и той же авторефлексии.
Творческой рефлексией занят и автобиографический герой-повествователь в рассказе «Видение» (1997). Рассказ начинается с размышлений о старости и конечном пределе человеческой жизни, которые навеяны часто слышимым по ночам неведомым, загадочным звоном (звуком, сигналом, зовом), «ищущим отгадки». Герой рассказа – писатель, 30 с лишним лет занимающийся сочинительской работой и подчинивший себя внутренней работе, работе воображения, фантазии, обращенной «вовнутрь»: «И глаза мои все чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж» [10, с. 446]. Задумавшись в предвидении о собственном уходе из жизни, герой-рассказчик сразу заявляет о своем двойственном местонахождении: «Когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе» [10, c. 449], т.е. нахождении на границе между двумя реальностями, соответствующими двум уровням реализации его «Я» – привычному миру и реальности возможного перехода в иное измерение. Эта идентификация считается наиболее глубокой степенью самореализации, где «Я», по мнению философов, способно обрести такое состояние личности, которое можно определить как «вечную возможность самой себя» [13, c. 248].
Пространство комнаты для героя переходит в «суженный, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорогу» (ср. дорогу, уходящую в горизонтальную даль в рассказе «Что передать вороне»). Дорога эта, находящаяся среди природных объектов – как на какой-то нарисованной, сказочной картине, ведет туда, где начинается другая, новая дорога, где картина меняется, как в замедленном фильме: вот старичок выходит на обочину дороги, вглядываясь в даль в ожидании чего-то, вот колдовской силой сонно переливается речка, на берегу которой дорога пропадает. Возможность своего одновременного присутствия в кресле и в пространстве представленного мира рождает второе видение, позволяющее герою ощущать себя в этом мире: «…я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стынут березы… Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут?» [11, c. 451]. Герой-рассказчик видит себя идущим среди берез к мостику – своеобразному переходу за черту земной жизни, не решающимся перейти через него и ступить «на белые и круглые крапчатые камни» на другой стороне речки, где теряется дорога. Он только сидит на боковине мостика, борясь с желанием перейти на ту сторону. Та и другая стороны речки освещены светом, рассказчик чувствует, что этим светом озарен и он. «”Хорошо, хорошо”, – нашептываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали» [11, c. 451–452].
Описание этого необычного «видения» пронизано радостью героя от возмож-ности/невозможности переступить мостик-порог, и это состояние близко к некой просветленности. Для героя (как и для читателя) загадочна эта радость, загадочно и то, является ли отражением жизненной реальности героя мир, на который нельзя наглядеться (авторский комментарий и здесь отсутствует, кроме неясной фразы: «Мне не хочется искать ответа, хорошо это или плохо»): то ли это готовность слиться с открывающимся/неоткрывшимся миром («точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы»), то ли ощущение невозможности сделать последний решающий шаг.
Как и в начале своего пути автобиографический герой Распутина не слушает предупреждений и критических упреков, так и позже, когда наступает близость «конечных пределов», он по-прежнему испытывает желание оказаться перед лицом этой тайны. И важно, что окончательный переход через эту границу не произошел благодаря воле самого создателя «представления» — автора и героя. Все дело в творческой наполненности самого воображаемого «путешествия»: здесь и радость от возможности понять неведомую тайну, стоит только решиться, и понимание неокончательности жизненного пути, незавершенности творческого потенциала.
Авторская рефлексия в «Видении» передает изумление героя от духа тайны, которая навеяна не раз услышанным зовом, призывающим к акту творческой рефлексии, который и предоставляет возможность прикоснуться к трансцендентному. Возможность эта переживается как откровение о себе, художнике, как принципиальное и неоспоримое подтверждение своего творческого дара. Но герой останавливается перед этой границей, в чем можно увидеть недостаточную проявленность процесса самоидентификации художника. Об этой некой незавершенности движения «Я» к вечному, трансцендентному писал В. Курбатов применительно к рассказу писателя 1982 г. «Век живи — век люби» [4, с. 186]. На наш взгляд, в рассказе «Видение» налицо художническая интуиция Распутина: все, что оказывается в зоне творческой рефлексии, содействует иррациональной тайне, подчиняется нелинейной логике — логике высшего порядка. Видения и сны, предчувствия и озарения оправданы у писателя именно творческой природой автобиографического героя.
Примечательны в этом смысле рассказы Л. Петрушевской конца 1990-х — начала 2000-х гг., вошедшие в книгу «Где я была. Рассказы из иной реальности» (2002). Реальность в них незаметно сливается с «царством мертвых», обнаруживая своеобразное преломление идеи романтического двоемирия в противопоставлении и одновременном слиянии «здесь» и «там», бытия и небытия. Петрушевская не стремится дать читателю целостное представление ни о реальной действительности, ни о таинственном потустороннем мире. На передний план выходит встреча героев с неизведанным «царством», взаимопроницаемость двух «царств»: оказывается, что запредельное и инфернальное не просто проникло в наш реальный мир — соседство с миром людей темных мистических сил, ужасающих и одновременно манящих, является вполне органичным, законным и почему-то даже неудивительным. Петрушевская никогда не делает различия между миром небесным и миром земным, миром сказочным, архаичным, и миром реальным, цивилизованным.
Но не только таинственное и потустороннее проникает в реальный мир, напротив, еще чаще сам человек проникает в «тот» мир, на «тот» свет. Например, в рассказе «Три путешествия, или Возможность мениппеи» как раз говорится о переходах из одного «царства» в другой и делается предположение, что герои, перемещающиеся во взаимоисключающих пространствах, «ни живы ни мертвы, или и то и другое вместе», как пишет О. Лебедушкина в статье «Книга царств и возможностей» [6, с. 202].
Рассказ «Три путешествия, или Возможность мениппеи» имеет подзаголовок «Заметки к докладу на конференции “Фантазия и реальность”», и это указание на научный характер повествования разрушается, поскольку в центре внимания писательницы оказываются мистические переходы, «путешествия» из мира реального в загробный мир. Параллельно с первым путешествием старого человека в мир, откуда не возвращаются, о котором рассказывает повествователь, автор рассказа помещает два путешествия героини, имеющей несомненный автобиографический облик, размышляющей о будущем докладе во время заграничной поездки на тему «трансмарша» — момента перехода из одного мира в другой. Реальное путешествие (третье) — это поездка с пьяным водителем автомобиля по горной дороге и воображение скорой гибели, которая приведет на страницы некой новой «Божественной комедии» и «подарит» встречу с умершими писателями-классиками на террасе дома творчества. А другое (второе) путешествие приведет к встрече с умершей женщиной Сантой, их разговору о покое и тишине, которым героиня позавидует как обретенному счастью, тогда как собеседница с сомнением отнесется к такому пониманию счастья, после чего выяснится, что и Санта, и дети, чьи голоса все время слышались героине-рассказчице из подвала или подземелья, — это погибшие во время землетрясения люди.
Повествование в рассказе приближено к почти документально-эссеистическому жанру, и героиня призвана воплощать самого автора — писательницу, которая приглашена на конференцию с докладом и которая может напрямую обращаться к своему читателю, самому «тонкому и чувствительному». Дает героиня-автор и определение жанру своего рассказа — мениппея, которое напрямую попадает под определение М. М. Бахтина: мениппея — это жанр «экспериментирующей фантастики», предполагающий «трехпланное построение: действие и диалогические синкризы переносятся с Земли на Олимп и в преисподнюю» [1, с. 192, 201]. И действительно, героиня рассказа, представляющаяся читателю известным автором, находится и на Земле, где боится стать жертвой автокатастрофы, и на Олимпе, где в воображении рисует встречу с Толстым, Чеховым, Буниным, и, наконец, спускается в преисподнюю, где общается с погибшей в землетрясении женщиной.
Важнейшей особенностью жанра мениппеи, по Бахтину, является неограниченная свобода сюжетного вымысла, необходимого для создания исключительной ситуации, для испытания философской идеи. И рассказ Петрушевской строится на резких контрастах и оксюморонных сочетаниях, на игре верха и низа, на смешении стилей, прозаической, поэтической и научной речи (доклад, который пишется опять же в воображении героини). В настоящей мениппее изображаются необычные, аномальные психические состояния человека (бредовые, суицидальные), раздвоение личности, страшные сны, страсти, граничащие с безумием, т. е. все то, что характерно для других циклов писательницы, прежде всего цикла «В садах других возможностей».
В «Трех путешествиях» можно обнаружить автопереклички с предыдущими рассказами Петрушевской: в тезисах своего доклада героиня указывает на умение человека, незаметно перешедшего границу жизни и смерти, отталкиваться от предметов и летать, что напоминает финал рассказа «Два царства», где этим умением начинает обладать умирающая героиня; в путешествии по странному дому героиня-повествователь видит кучу тряпья, от которой «несло мерзостью, тоской, даже ужасом», совсем как в рассказе «Черное пальто», героиня которого совершила путешествие в загробный мир на грузовике с безумным шофером и в странном доме тоже обнаружила кучу тряпок, которые, когда она села на них, зашевелились, «как живые, как будто змеи», и чудом вернулась оттуда, отказавшись от самоубийства в последний момент. А вот путешествие старого человека в мир смерти выглядит вполне самостоятельным и мало похожим на стиль рассказов писательницы, полных причудливого соединения бытовых и бытийных реалий, правда, и здесь есть перекличка с рассказом из цикла «Песни восточных славян», связанная с пропажей кота Мишки и его поисками, напоминающими вину героя и плач его маленькой дочери из рассказа «Жена». Здесь же, в повествовании о первом путешествии, звучит иная интонация — почти поэтическая торжественность речи рассказчицы, радующейся встрече героя со своим любимым котом, давным-давно исчезнувшим из жизни хозяина «на этом свете» и наконец воссоединившимся с ним «на том».
Рассказ «Возможность мениппеи. Три путешествия» предлагает игру с различными литературными дискурсами и по праву может называться повестью, но по жанрово-стилевой доминанте представляет малую форму, потому что в центре единственная сюжетная линия и одна и та же повествовательная ситуация: три путешествия существуют только в воображении героини-писательницы, и перед читателем разворачивается ее творческая рефлексия, процесс непосредственного сочинения текста рассказа. Ведь только в творческом сознании может так причудливо соединиться рассказ об одном старом человеке, возникший и продолжившийся в момент дикой ночной поездки на автомобиле с пьяным водителем за рулем и, закончившись, смениться повествованием о другом путешествии в привидевшийся во время автомобильной езды волшебный город, посещение которого очень напоминает сновидение о мире, где реальность соседствует с загробным миром. Недаром в рассказах Петрушевской поездка ее героев за границу или в другой город невольно совпадает с мечтой о «заграничном рае», куда, например, попадает женщина Лина, разлучившаяся с сыном и мамой после операции и освободившаяся от боли и тягот земного «ада» («Два царства»), или Нина, героиня рассказа «Бог Посейдон», утонувшая во время крушения прогулочного катера и обретшая райский сад «других возможностей», «голубую мечту» в виде роскошных апартаментов на дне моря. Сознание рассказчицы и в новых рассказах-«путешествиях» сливается с авторским чувством, соединяющим одновременно облегчение и горечь по отношению к тем, кто наконец обрел тишину и покой вместо суматошного будничного «ада». Только голос, разумеется, звучит по-другому в повествовании «Трех путешествий»: оно лишено сказовых интонаций, наполнено авторским чувством так, что напоминает публицистическую или мемуарно-эссеистическую манеру рассказывания в книгах Петрушевской «Девятый том» или «Маленькая девочка из “Mетрополя”».
Образ райского сада «оказывается средоточием конечного маршрута человеческой души» [8, с. 89], когда совершается переход из мира земного в потусторонний мир, из плана реального в план ирреальный. Но этот переход совершается только в воображении творческой личности: как читатель узнает в финале, героиня откажется от поездки с пьяным водителем и пригрезившаяся гибельная дорога с ним окажется выходом к «жанру литературы», позволяющему оказаться на границе между жизнью и смертью, смоделировать путешествие, невозможное в невымышленном дискурсе прозы non-fiction.
В то же время и у Распутина, и у Петрушевской придуманная (вымышленная, фикциональная) версия путешествия («дороги») в иное измерение может быть рассмотрена как документальная хроника индивидуальной жизни автора-писателя. А следование биографическим данным «Я»-повествователя не закрывает онтологической, бытийной уникальности рассказанных историй. И дело здесь не в достоверности созданного симбиоза автора / повествователя / персонажа (героя), а в опоре на готовность читателя принять установленные правила игры.
Одной из ключевых особенностей постмодернистского повествования типа autofiction М. Липовецкий называет тематизацию процесса творчества через мотивы сочинительства, жизнестроительства и указывает на высокую степень репрезентативности «вненаходимого» автора-творца, находящего своего текстового двойника в образе персонажа-писателя, нередко выступающего как автор самого произведения [7, с. 45–46]. Проза autofiction открывает широкие возможности для использования такого рода литературной игры, приводящей к синтезу художественного и нехудожественного, поскольку документально-биографический дискурс в такой прозе трудно отделить от беллетристически-вымышленного.
В рассказах, о которых шла речь, герой, тождественный автору, в поисках гармонической цельности пытается прикоснуться к тайне трансцендентного перехода, и окажется, что «акт трансценденции неотделим от написания текста, он совершается именно в процессе сочинения» [7, с. 76]. В рассказах В. Распутина можно увидеть процесс создания «текста» как воспроизведения героем-писателем «обес-словленных голосов» людей, ушедших за грань наличной реальности, как попытка выйти к бытийной тайне, душам людей, которые уже приобщились к бытийному сознанию, «ведающему простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились» [12, с. 384]. Выход за пределы происходит и в рассказе Л. Петрушевской, где героиня-писательница выступает создателем собственного нового «текста», который приходит как бы сам собой, без принуждения. Оба писателя интуитивно понимают, что сам процесс «написания текста» позволяет чудесным образом прикоснуться к тайне жизни и смерти.
Таким образом, тождество автора и героя, введение автореминисценций и автоиллюзий, встраивание биографических фактов и деталей в вымышленную реальность — эти приемы в прозе autofiction не более чем художественная условность. Главным остается творческий акт героя такой прозы как акт прикосновения к трансцендентному. Особенности рефлексии автора / повествователя / героя в проанализированных произведениях свидетельствуют о способности творческой личности преодолеть границу, отделяющую ее от иной реальности, неизведанной и непознаваемой, и дух этой трансцендентной тайны тесно связан с тайной притягательности настоящего искусства.
Список литературы Non-fiction или autofiction? Об одной тенденции в русском рассказе рубежа ХХ-ХХІ вв
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Художественная литература, 1979. 341 с.
- Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. 464 с.
- Иванова Н. По ту сторону вымысла // Знамя. 2005. № 11. С. 3–8.
- Курбатов В. Предчувствие // Наш современник. 1992. № 1. С. 186–191.
- Кучина Т. Перволичные повествовательные формы в русской прозе конца ХХ — начала ХХI века // Проблемы неклассической прозы: сб. статей. / сост. Е. Б. Скороспелова. М.: Макс Пресс, 2016. Вып. 2 С. 275–313.
- Лебедушкина О. Шахерезада жива, пока... : о новых сказочниках и сказках // Дружба народов. 2007. № 3. С. 198–211.
- Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург, 1997. 317 с.
- Монгуш Е. Д. Функции литературно-мифологической образности в прозе Л. Петрушевской: дис. ... канд. филол. наук. Абакан, 2014. 180 с.
- Плеханова И. И. Александр Вампилов и Валентин Распутин: диалог художественных систем: монография. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016. 329 с.
- Распутин В. Г. В непогоду // Дочь Ивана, мать Ивана: Повесть, рассказы. 2-е изд, доп. Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. С. 417–444.
- Распутин В. Г. Видение // Дочь Ивана, мать Ивана: повесть, рассказы. 2-е изд, доп. Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. С. 445–453.
- Распутин В. Г. Что передать вороне // Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 78–97.
- Эпштейн М. Философия возможного. СПб.: Алетейя, 2001. 334 c.