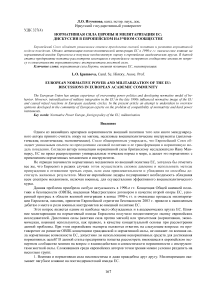Нормативная сила Европы и милитаризация ЕС: дискуссии в европейском научном сообществе
Автор: Игумнова Л.О.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.
Бесплатный доступ
Европейский Союз обладает уникальным опытом преодоления силовой политики и развития нормативной модели поведения. Однако активизация военно-политической интеграции ЕС в 1990-е гг. оказала свое влияние на нормативный имидж Евросоюза и получила неоднозначную оценку в европейских академических кругах. В данной статье предпринята попытка рассмотреть имеющиеся в европейском экспертном сообществе мнения по вопросу о совместимости нормативности с инструментами жесткой силы.
Нормативная сила европы, внешняя политика ес, милитаризация
Короткий адрес: https://sciup.org/142142486
IDR: 142142486 | УДК: 327(4)
Текст научной статьи Нормативная сила Европы и милитаризация ЕС: дискуссии в европейском научном сообществе
Одним из важнейших критериев нормативности внешней политики того или иного международного актора принято считать опору на мягкие, несиловые внешнеполитические инструменты (дипломатические, политические, экономические). Стало общепринятым утверждать, что Европейский Союз обладает уникальным опытом по преодолению силовой политики и ее трансформации в нормативную модель поведения. Согласно автору концепции нормативной силы британскому исследователю Иану Ман-нерсу, ЕС не просо распространяет универсальные этические нормы в мире, а делает это нормативно: с применением нормативных механизмов и инструментов.
Не отрицая значимости нормативных механизмов во внешней политике ЕС, хотелось бы отметить все же, что Евросоюз в редких случаях готов осуществлять силовое давление и использовать методы принуждения в отношении третьих стран, если сила привлекательности и убеждения не способны достигнуть желаемых результатов. Многие европейские лидеры подчеркивают необходимость обладания всем спектром механизмов, включая военные, для осуществления эффективного внешнеполитического курса.
Данная проблема приобрела особую актуальность в 1990-е гг. Концепция Общей внешней политики и безопасности (ОВПБ), введенная Маастрихтским договором в качестве второй опоры ЕС, ускоренный прогресс в области военной интеграции в конце 1990-х гг. и очевидные процессы милитаризации Евросоюза, наконец, принятие Европейской стратегии безопасности 2003 г. привели к оживленным дебатам о месте и роли военных инструментов во внешней политике ЕС.
Этот вопрос является одним из наиболее часто обсуждаемых и в академических кругах ЕС. Влияние милитаризации на нормативный имидж Евросоюза получило неоднозначную оценку европейских исследователей. Дихотомия силы (жесткая сила против мягкой) или трихотомия (нормативная, экономическая, военная) используются, как правило, в качестве концептуальной основы при рассмотрении данной проблемы. При этом европейские эксперты пытаются ответить на следующие вопросы: не противоречит ли развитие ОВПБ концепциям гражданской и нормативной силы, не снижает ли военная сила нормативные возможности ЕС, допустимо ли использование ненормативных средств для достижения нормативных целей? В данной статье предпринята попытка рассмотреть имеющиеся в европейском экспертном сообществе мнения на вопрос о взаимодействии и совместимости нормативности с инструментами жесткой силы. Сложившиеся среди европейских авторов точки зрения можно условно разделить на несколько групп.
-
1. Военная и нормативная сила несовместимы и даже враждебны друг другу. Милитаризация оказывает пагубное влияние на постмодернистский имидж ЕС.
-
2. Военная сила и нормативность не противоречат друг другу, однако силовые инструменты должны играть лишь второстепенную роль в сравнении с нормативными.
-
3. Военным инструментам необходимо занять ключевое место в распространении Евросоюзом общечеловеческих этических ценностей в мире.
Рассмотрим далее предложенные аргументы несколько подробнее.
Милитаризация и нормативная сила несовместимы
Для авторов, придерживающихся данной точкой зрения (Карен Смит, Ян Зиелонка и др.), нормативная сила означает предрасположенность к невоенным внешнеполитическим инструментам. Мягкие методы привлекательности и убеждения классифицируются как более нормативные, чем методы принуждения. Многие эксперты предостерегают Евросоюз от развития военной мощи и осуждают процессы милитаризации ЕС. С их точки зрения военная сила по определению враждебна концепции нормативной, гражданской или цивилизаторской силы.
Государствам не нужны военные инструменты, даже «про запас», утверждает британская исследовательница Карен Смит [15, р. 76]. Право должно прийти на смену силе, фундаментально трансформируя практику международных отношений. Подлинно нормативный актор стремится к преодолению силовой политики через развитие и усиление международного и космополитичного права. Миссия ЕС состоит в том, чтобы играть в этом процессе ключевую роль.
Несмотря на то, что шансы появления «гоббсоновского ЕС» невелики, с точки зрения К. Смит, развитие европейских военных возможностей несет в себе многие негативные последствия: это риск превращения ЕС в одну из великих держав и дискредитация постмодернистского имиджа Евросоюза как нормативной и гражданской силы [15, р. 76; 20, р. 229]. ЕС, по мнению авторов либерального направления, не должен стремиться приобретать атрибуты великой державы, так как это путь назад, в XIX столетие и к новым межгосударственным конфликтам. Цель европейской интеграции не в том, чтобы создать новую великую державу, а в том, чтобы уйти от великодержавной ментальности [16, р. 183].
Ряд высокопоставленных чиновников ЕС разделяют данную точку зрения. По словам Комиссара по внешней политике ЕС Бенита Ферерро-Уалднер, «мягкая сила убеждения» Европейского Союза лишь поддерживает процессы трансформации, а не навязывает их извне [4].
Военная сила и нормативность не противоречат друг другу
Довольно многочисленная группа европейских экспертов уверена в том, что нормативность не предполагает полного отказа от применения военных инструментов (Ханнс Маулль, Заки Лаиди, Туомас Форсберг, Лизбет Аггестам, Ричард Уитмен, Стелиос Ставридис и др.). Они не видят в милитаризации ЕС ничего предосудительного, так как милитаризация в данном случае направлена на достижение благих целей [1, 6, 7, 10, 18, 19]. С их точки зрения, использование военных инструментов во благо этически оправдано. Военная сила может подкреплять и усиливать нормативность. Ничего не мешает ЕС применять военную силу с целью самообороны, коллективной безопасности, в ходе гуманитарных интервенций и для «цивилизации» международных отношений [10, р. 781]. Защита прав человека и продвижение демократических принципов нередко требуют обращения к военным инструментам. Если ключевые нормы явно и систематически нарушаются, необходимо действовать, а не закрывать глаза на происходящее [14, р. 239]. Жесткая сила может играть решающую роль в реконструкции и постконфликтном строительстве [1, р. 9].
Наоборот, недостаточный потенциал жесткой мощи ограничивает европейские нормативные действия. Неразвитость механизмов силового давления в отношении сопротивляющихся акторов затрудняет успешное продвижения этических норм, в связи чем Европа способна насаждать нормы лишь на фрагментарной основе - преимущественно в странах, стремящихся вступить в ЕС [7]. В других случаях европейское влияние ограничено. Европа не обладает эффективными рычагами давления в отношении стратегически значимых стран (США, России, Китая и др.).
По мнению ряда экспертов, ЕС в любом случае останется нормативной силой, даже при наличии военной мощи и несмотря на процессы милитаризации. Развитие военной интеграции, с их точки зрения, существенно не меняет нормативного характера ЕС [19].
Стоит заметить, однако, что экспертов, выражающих данную точку зрения, можно разделить на две подгруппы. Одни указывают на иное, более скептическое восприятие военной мощи нормативной или гражданской силой, для которой военные инструменты выступают лишь в качестве второстепенных (Ханнс Маулль, Иан Маннерс, Томас Диез) [3, 9, 11]. С точки зрения этой группы авторов, военная сила не должна преобладать над гражданскими инструментами, даже если ее целью является распространение норм. Томас Диес, в частности, предупреждает: чем больше нормативная сила опирается на военную мощь, тем меньше она отличается от традиционных форм силы, тем меньше она основывается непосредственно на силе норм [3, p. 620-621]. В этом плане, развивая ОВПБ, ЕС должен учитывать американский опыт и избегать американских ошибок [3, p. 635]. Пример Иракской войны показывает, насколько жесткая сила подрывает престиж и привлекательность страны в глазах других стран.
В исследовательской литературе рассматриваются и нормативные способы применения военной силы: только коллективно, в рамках международного права и с целью цивилизации международных отношений [10, p. 781].
Другие авторы полагают, что военная мощь должна играть ключевую, а возможно, и первостепенную роль в распространении этических ценностей (Стен Риннинг и др.). С их точки зрения нормативная сила не может обойтись без военно-силовых механизмов и элемента принуждения. Этическая внешняя политика может быть эффективной только в том случае, если она подкреплена военной мощью. Наличие военного потенциала позволяет достигать более амбициозных целей в плане продвижения норм [13]. Отход от гуманитарной безопасности и поворот в сторону гуманитарных интервенций видится в качестве одного из способов преодоления кризиса ООН. Некоторые эксперты призывают действовать по законам джунглей: так, Роберт Купер – бывший советник Тони Блэра и европейский дипломат, утверждает, что ЕС не сможет защитить свой постмодернистский рай, если не будет играть по правилам джунглей, преобладающим вовне [2]. Примером совместимости нормативности и военной силы для многих авторов данной группы являются Соединенные Штаты.
На наш взгляд, подобные интерпретации нормативности скорее близки концепции «умной силы» («smart power»). Сегодняшняя американская администрация официально заявила, что ее внешнеполитический подход основан на «умной силе» – разумном сочетании мягких и жестких инструментов [17]. Некоторые европейские авторы тоже предпочитают видеть ЕС в качестве «умной силы» (Туомас Форсберг, Олли Рен, Лаура Феррейра-Перейра). В ряде работ содержится идея о необходимости концептуализировать нормативную силу вместе с военной и экономической, что откроет новые источники влияния и позволит разработать новые внешнеполитические механизмы [5, 6, 12].
Иан Маннерс о совместимости нормативности и военной силы
Какого же мнения по вопросу о совместимости нормативных и военных инструментов придерживается автор концепции нормативной силы Иан Маннерс? С одной стороны, Маннерс проводит различия между нормативной, экономической и военной формами силы. Один из центральных аргументов автора состоит в том, что ЕС как нормативная сила не полагается на военную и экономическую мощь для достижения своих целей. Сила примера и убеждения остаются для Маннерса главными внешнеполитическими инструментами Евросоюза. В предложенных автором шести механизмах нормативной силы (инфекция или сила примера, информационная, процедурная и открытая диффузия, передача, культурный фильтр) физическая сила практически отсутствует [8, p. 244-245]. Тем не менее рассуждения о роли и месте военных инструментов во внешней политике ЕС занимают важное место в работах этого автора.
С точки зрения Маннерса, развитие европейских военных возможностей может быть, а может и не быть вызовом для идеи нормативной силы. В одной из своих статей в 2006 г. автор высказывал мнение, что военная сила не должна непременно входить в противоречие с идеей нормативности и снижать европейский нормативный потенциал [9, p. 244-245]. Однако наращивание военных возможностей должно осуществляться осмысленно. Только некритическая, бездумная милитаризация подрывает нормативную силу ЕС. Другими словами, обладание военной мощью или даже ее применение не противоречит идее нормативности, но только в том случае, если военная сила подчинена более фундаментальному нормативному этосу, и мирное примирение сторон имеет приоритет над военными интервенциями.
Как считает Маннерс, на сегодняшний день, однако, милитаризация уже снижает нормативные возможности ЕС. По мере роста европейского военного потенциала у Евросоюза появляется больше соблазнов его использовать, вместо того чтобы заниматься долгосрочным структурным предотвращением конфликтов [9, p. 194]. ЕС отходит от нормативных принципов, в частности от принципа устойчивого мира и концепции «безопасности человека» («human security»). Поворот в сторону гуманитарных интервенций не приветствуется Маннерсом [9, p. 182, 183, 185, 189]. Один из главных выводов автора: чтобы не потерять нормативную силу, ЕС должен вернуться к принципу устойчивого мира в качестве своей центральной нормы.
Заключение
Вопрос о том, какие инструменты из имеющегося арсенала внешнеполитических средств можно считать нормативными, не получил окончательного ответа в научной литературе. Европейским экспертам до сих пор так и не удалось прийти к консенсусу по вопросу о сущности нормативных механизмов и проблеме совместимости военных и гражданских инструментов. В связи с сохраняющимися теоретическими спорами концепция нормативной силы не лишена противоречий.
Рассмотрев существующие в научной литературе точки зрения, мы видим, что далеко не все авторы, разрабатывающие концепцию нормативной и гражданской силы Европы, осуждают применение военных механизмов для достижения этических целей. Дихотомия мягкая сила против жесткой представляется многим довольно упрощенной. В то же время большинство экспертов, рассуждающих о нормативности, сходятся во мнении о том, что нормативная сила отдает предпочтение ненасильственным и невоенным внешнеполитическим инструментам.
На наш взгляд, интеграция военных и гражданских, мягких и жестких инструментов, а также сочетание нормативной роли со стратегической значимостью в международных отношениях вполне возможны. Согласимся с точкой зрения тех авторов, которые считают, что, несмотря на обладание военной силой, ЕС смог сохранить свою нормативную сущность, отдавая предпочтение мягким инструментам и рассматривая механизмы жесткой силы в качестве второстепенных.