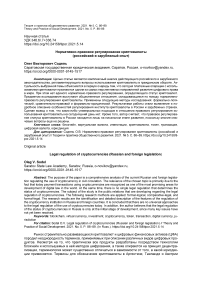Нормативно-правовое регулирование криптовалюты (российский и зарубежный опыт)
Автор: Содель Олег Викторович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является комплексный анализ действующего российского и зарубежного законодательства, регламентирующего вопросы использования криптовалюты в гражданском обороте. Актуальность выбранной темы объясняется в первую очередь тем, что сегодня платежные операции с использованием криптовалют признаются одним из самых перспективных направлений развития цифрового права в мире. При этом нет единого нормативно-правового регулирования, определяющего статус криптовалют. Предметом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу нормативноправового регулирования криптовалюты. Применены следующие методы исследования: формально-логический, сравнительно-правовой и формально-юридический. Результатами работы стали выявление и подробное описание особенностей регулирования института криптовалюты в России и зарубежных странах. Сделан вывод о том, что каких-либо универсальных подходов в отношении правового регулирования использования криптовалюты на сегодняшний день нет. Кроме того, автор считает, что правовое регулирование статуса криптовалюты в России находится лишь на начальном этапе развития, поскольку многие ключевые вопросы еще не решены.
Блокчейн, виртуальная валюта, инвестиции, криптовалюта, токен, транзакция, цифровая валюта, юрисдикция
Короткий адрес: https://sciup.org/149133007
IDR: 149133007 | УДК: 346.6/.7+336.74 | DOI: 10.24158/tipor.2021.5.14
Текст научной статьи Нормативно-правовое регулирование криптовалюты (российский и зарубежный опыт)
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия, ,
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia, ,
Рынок стремительно развивающихся криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) породил неоднородность терминов, применяемых при описании различных видов цифровых продуктов. Несмотря на то, что практически все продукты разработаны посредством технологии блокчейн и используемых в ней методов шифрования, а также опираются на принцип децентрализации, терминология может существенно отличаться в зависимости от того, в какой юрисдикции применяется. Термины для обозначения криптовалюты в Аргентине, Таиланде и Австрии включают в себя цифровую валюту; в Канаде, Китае и Тайване – виртуальный товар; в Германии – крипто-токен; в Гондурасе и Мексике – виртуальный актив; в Колумбии и Ливане – электронную валюту; в Италии – кибервалюту [1, c. 25].
В мировой практике в связи с неоднозначностью используемых терминов часто применяется практика информирования и разъяснения возможных рисков, которые неизбежно влекут инвестиции в криптовалютные активы. Как правило, эту функцию берут на себя центральные банки, которые публикуют обзоры, информирующие граждан о разнице между частными криптовалютами и валютами, выпущенными государством, обеспеченными его имиджем и активами. Разъяснения могут содержать информацию, касающуюся как эмитентов, так и криптовалютных бирж. Их деятельность зачастую не регулируется законодательством конкретной страны, что лишает потенциальных инвесторов возможности обратиться за судебной защитой своих прав при потере инвестиций, блокировке доступа к счету либо в случае иных инцидентов.
В целях защиты сбережений и инвестиций своих граждан ряд стран ввел ограничения на критовалютные инвестиции. Ограничения носят неоднородный характер. К примеру, Китай, Иран, Бангладеш, Таиланд, Колумбия не запрещают своим гражданам инвестиции подобного рода, но косвенным образом препятствуют такой деятельности через механизмы запретов в отношении своих финансовых учреждений проводить или способствовать совершению операций с криптовалютами. Катар и Бахрейн занимают в этом вопросе иную позицию, запрещая своим резидентам участвовать в любой деятельности, связанной с криптовалютами на своей территории, но данный запрет не распространяется на деятельность, которая ведется гражданами на территории других государств. Более радикальный подход к данной проблеме избрали Марокко, Боливия, Алжир, Непал, Пакистан и Вьетнам, где любая деятельность, относящаяся к обращению криптовалют, находится под запретом [2, с. 84].
Существует и либеральная точка зрения, которой придерживаются Люксембург, Мальта, Белоруссия и Испания. Эти страны видят в технологии блокчейн не угрозу, а технологическое новшество, способствующее привлечению инвестиций в технологические компании, преуспевающие в этом секторе. Несмотря на то, что в указанных государствах криптовалюты не являются законным платежным средством, тем не менее создан благоприятный режим для их использования в качестве инвестиций.
Существует несколько стран, которые, несмотря на выпуск предупреждений об инвестиционных рисках для своих граждан, полагают, что объем рынка криптовалют настолько незначителен, что на текущем этапе не требуется дополнительного регулирования в данной сфере. Пример такой позиции демонстрируют Великобритания, ЮАР, Бельгия [3, c. 63].
Ряд правительств избрал курс на развитие собственных криптовалют. В эту группу входят, к примеру, государства-члены Восточно-Карибского центрального банка, Литва, Венесуэла. Боливарианская Республика в данном контексте приобрела широкую известность, заявив о своей готовности принимать оплату поставки нефти в национальной криптовалюте – El Petro. Президент страны в начале 2020 г. даже заявил о подписании указа о продаже 4,5 млн баррелей нефти за El Petro. Правда, до настоящего времени достоверных сведений о реальности данной сделки в открытых источниках нет. Следует отметить, что некоторые представители финансовой сферы Венесуэлы охарактеризовали выпуск указанной криптовалюты как мошенничество, поскольку вложения в цифровые деньги обесцениваются наравне с национальной валютой вследствие колоссальной инфляции.
В настоящее время лишь небольшое количество государств разрешает принимать криптовалюту в качестве платежного средства. Государственные учреждения швейцарского кантона Цуг и муниципалитета Тичино принимают криптовалюты в качестве платежного средства. Практическими равными правами с национальной валютой криптоденьги пользуются в Мексике и на острове Мэн. Правительство Антигуа и Барбуды практикует финансирование инфраструктурных и социальных проектов, а также благотворительных организаций посредством ICO, поддерживаемых правительством.
С точки зрения государственных фискальных органов, наиболее важным вопросом при изучении инвестиционных доходов граждан является доход, полученный в результате инвестиций в криптовалюты или ЦФА. Представители налоговых органов зачастую сталкиваются с проблемой, как классифицировать доход, полученный от майнинга или перепродажи криптовалют. В данном вопросе налоговые органы разных стран вырабатывают собственные подходы:
-
– облагается подоходным налогом (Испания, Аргентина);
-
– облагается налогом как финансовый актив (Болгария);
-
– облагается налогом на прибыль, убытки подлежат вычету (Дания);
-
– облагается налогом как актив (Израиль);
-
– облагается налогом как иностранная валюта (Швейцария).
В июле 2020 г. президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], который разрешает с 2021 г. проводить сделки с ЦФА, но запрещает криптовалюты как средство платежа в России. В данном законе дается определение криптовалюты – цифровой валюты, но запрещается ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.
Одним из видов криптоинструментов являются ЦФА. Под ними понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны путем внесения записей в информационной системе, основанной, прежде всего, на распределенном реестре. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информационных систем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа. Банк России вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы – физические лица. Кроме того, Банк России наделяется и другими полномочиями в области нормативно-правового регулирования, а также контроля и надзора в рассматриваемой сфере.
Наделение с 1 января 2021 г. операторов информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск ЦФА, и операторов их обмена статусом некредитных финансовых организаций также распространяет в их отношении полномочия Банка России как органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков [5]. Таким образом, отношения в области выпуска и обращения ЦФА становятся объектом не только частноправового [6], но и финансово-правового регулирования, поскольку на законодательном и подзаконном уровне устанавливаются определенные требования к денежным фондам и финансовой устойчивости вышеуказанных операторов как участников финансового рынка.
Российский законодатель определил криптовалюту (цифровую валюту) как средство платежа, средство сбережений и как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России. Несмотря на то, что сам факт принятия специального нормативно-правового акта, который регламентирует вопросы, связанные с оборотом криптовалют, является положительным, признать данный документ достаточно проработанным нельзя. Так, национальный законодатель предусмотрел, что судебная защита прав на криптовалюту допускается только в тех ситуациях, когда она декларировалась в установленном порядке и с нее производилась уплата соответствующих налогов. В этом случае непонятно, как именно будет осуществляться проверка. Ведь в декларации доходы, полученные от продажи криптовалюты, могут указываться абсолютно по-разному, а хранение криптовалюты (без получения дохода от нее) никогда не обязывало к особому декларированию. Кроме того, не вполне соответствует принципам правового и демократического государства сам подход, согласно которому владелец криптовалюты при обращении за судебной защитой должен подтверждать соблюдение налоговых обязанностей. Целесообразно в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о снятии указанных законодательных ограничений судебной защиты прав собственников криптовалют.
Помимо описанной проблемы, принятый закон имеет еще ряд существенных недостатков. Так, национальный законодатель не раскрывает способы защиты, которые может использовать собственник криптовалюты в том случае, когда нарушены его права. Из содержания закона нельзя точно определить, носит ли сделка с криптовалютой денежный характер.
Итак, анализ зарубежного и российского законодательства показывает, что позиция относительно допустимости использования криптовалюты напрямую зависит от экономических и политических условий, которые отличают ту или иную страну. Иными словами, каких-либо универсальных подходов в отношении законодательной регламентации института криптовалюты на сегодняшний день нет. Российская Федерация находится лишь на начальном этапе формирования и развития нормативно-правовой базы, регулирующей оборот криптовалюты. Многие значимые для развития цифрового права вопросы, в том числе ограничения судебной защиты прав собственников криптовалюты, способы их защиты, правовая природа сделок с криптовалютой, на данный момент еще не решены. Представляется необходимым принятие в ближайшее время специального федерального закона, регулирующего порядок выпуска и обращения цифровой валюты. При этом целесообразно в целях обеспечения финансовой безопасности государства и защиты интересов владельцев цифровой валюты наделить Банк России регулятивными и контрольно-надзорными полномочиями в указанной области.
Список литературы Нормативно-правовое регулирование криптовалюты (российский и зарубежный опыт)
- Арсланов К.М. История, современное состояние и перспективы развития криптовалюты: российский и иностранный правовой опыт // Гражданское право. 2020. № 1. С. 24-27. DOI: 10.18572/2070-2140-2020-1-24-27
- Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 1. С. 81-91. DOI: 10.17803/1994-1471.2020.110.1.081-091
- Кирилловых А.А., Овсюков Д.А. Электронные средства платежа: проблемы гражданско-правовой природы и уголовно-правовой охраны // Право и экономика. 2019. № 1. С. 62-70.
- О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056 (дата обращения: 25.04.2021).
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 20 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077052 (дата обращения: 25.04.2021).
- Беликов Е.Г., Беликова А.В. Цифровые финансовые активы как объект гражданских прав // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 6 (131). С. 169-172.