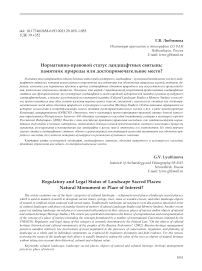Нормативно-правовой статус ландшафтных святынь: памятник природы или достопримечательное место?
Автор: Любимова Г.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из базовых категорий культурного ландшафта культовые/почитаемые места (ландшафтные святыни), которая используется в современных исследованиях для обозначения священных камней, родников, деревьев, каменных или деревянных крестов и прочих ландшафтных объектов природного или искусственного происхождения, наделенных сакральным статусом. Показано, что наряду с традиционной разработкой проблематики ландшафтных святынь как функциональных зон культурных ландшафтов и мест народной исторической памяти в рамках культурного ландшафтоведения, а также исследований коллективной памяти (Cultural Landscape Studies и Memory Studies) в последнее время наметился еще один аспект изучения перечисленных локусов, связанный с анализом их статуса как достопри-мечательныхмест и/или объектов природного и культурного наследия (Heritage Studies). Особое внимание обращается на историю осмысления и концептуализации самого понятия достопримечательного места, в т.ч. в ряде международных Конвенций, инициированных ЮНЕСКО. Отмечено, что в настоящее время нормативно-правовой статус данной категории определяется Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [2002]. Вместе с тем российские практики управления наследием, как свидетельствуют нормативные документы и полевые материалы, отличаются довольно низкой вовлеченностью местного населения в процессы охранения, регулирования и планирования как ландшафта в целом, так и отдельных его компонентов. По этой причине оценка статуса ландшафтных святынь обычно ограничивается констатацией ценности памятников как объектов природного наследия, без учета их историко-культурного и религиозно-культового значения.
Культурный ландшафт, ландшафтные святыни, объекты природного и культурного наследия, практики управления наследием, достопримечательное место
Короткий адрес: https://sciup.org/145146647
IDR: 145146647 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1051-1055
Текст научной статьи Нормативно-правовой статус ландшафтных святынь: памятник природы или достопримечательное место?
Категория местных (сельских) ландшафтных святынь (культовых/почитаемых мест) используется в современных исследованиях для обозначения священных камней, родников, деревьев, каменных или деревянных крестов и прочих ландшафтных объектов природного или искусственного происхождения, наделенных сакральным статусом [Панченко, 1998, с. 12–13]. Аккумулируя в себе судьбы конкретных людей, факты локальной истории и местные исторические предания, такие святыни играют роль «объективированной коллективной памяти», тесно связанной с «конструированием идентичности группы» [Кор-мина, 2019, с. 156, 158]. Обращая внимание на то, что исторический опыт многих локальных сообществ далеко не всегда представлен в ландшафтных памятниках или «культурных объектах под открытым небом», Лисанна Гибсон в этой связи пишет, что наличие или отсутствие подобных «маркеров в культурном ландшафте» существенным образом влияет на идентичность самого местного населения [Gibson, 2016, p. 67].
Очерченная проблематика активно разрабатывается в рамках таких направлений, как исследования культурных ландшафтов и коллективной памяти (Cultural Landscape Studies и Memory Studies). В последнее время наметился еще один аспект изучения перечисленных локусов, связанный с анализом их статуса как достопримечательных мест или объектов природного и культурного наследия (Heritage Studies).
Остановимся на истории осмысления и концептуализации самого понятия достопримечательного места. На сегодня нормативно-правовой статус данной категории определяется Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которому к достопримечательным местам относят «совместные творения человека и природы». Такого рода творения включают «памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических сообществ», а также «историческими (в том числе, военными) событиями». Сюда же входят «места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий» и «религиозноисторические места» [Федеральный…, 2002].
Отметим, что изначально указанная категория прямо соотносилась с понятием наследия. Согласно принятой ООН более полувека назад Конвенции, идея достопримечательного места распределялась между двумя его видами (культурное и природное наследие). Консолидация выделенных видов наследия осуществлялась при этом на принципах эксклюзивности и элитарности: в обеих частях определения подчеркивалось, что признаком любого объекта наследия является его «выдающаяся универсальная ценность» либо с точки зрения «истории, эстетики, этнологии или антропологии», либо – «науки, сохранения или природной красоты» [Конвенция…, 1972].
Данный подход нашел яркое отражение в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, в который от России с 1990 г. вошло 30 наименований, включая 19 культурных и 11 природных объектов. В числе выдающихся объектов культурного наследия (cultural sites) отмечены исторический центр Санкт-Петербурга, Московский Кремль и Красная площадь, архитектурные ансамбли Соловков, Кижей и пр., тогда как выдающимися объектами природного наследия (natural sites) названы оз. Байкал, вулканы Камчатки, хребты Западного Кавказа и пр. [World…]. Не трудно заметить, что все перечисленные объекты относятся к разряду «недвижимого» (укорененного на местности) наследия. Иными словами – это имеющие материальное воплощение природные и культурные памятники, самым тесным образом (буквально «через пуповину», как сказано в одном из зарубежных исследований) связанные со своим географическим положением (connected umbilically to a geographical location) [Gibson, Pendlebury, 2016, p. 5].
Не удивительно, что в концептуализации наследия «идея места» и акцент на территориальной укорененности (географической привязке) отмеченных объектов со временем выдвинули на первый план понятие культурных ландшафтов. Как следует из концепции, разработанной центром Всемирного наследия ЮНЕСКО, культурные ландшафты являются визитной карточкой различных регионов мира. Будучи результатом длительного взаимодействия человеческих сообществ с природной средой, одни ландшафты способствуют сохранению земного биоразнообразия, тогда как другие – в первую очередь, священные места (sacred places) – служат воплощением тех или иных религиозных воззрений и практик [Cultural…, 1992]. Именно с помощью данного концепта произошло закономерное смещение исследовательской оптики от кейсов мирового (или общечеловеческого) значения к случаям, связанным с историей различных этнических групп и отдельных локальных сообществ. Представители таких сообществ, как показывает зарубежный опыт, отличаются высокой вовлеченностью в процессы сохранения, регулирования и планирования ландшафта в целом, а также отдельных его компонентов, включая почитаемые и достопримечательные места.
Подобная роль этнических групп и местных сообществ закреплена в ряде международных документов, в том числе, в Европейской Конвенции о ландшафтах, принятой в 2000 г. государствами – членами Совета Европы. Данная Конвенция, в частности, декларирует активную роль местного населения в развитии ландшафтов, которые рассматриваются в документе в качестве базовых компонентов природного и культурного наследия, способствующих формированию местной культуры, определяющих уровень благосостояния и качество жизни людей, а также укрепляющих их идентичность. Деятельное участие в ланд- шафтной политике (т.е. в развитии как выдающихся, так и самых обычных ландшафтов) расценивается Конвенцией не только как право, но и как обязанность локальных сообществ – одна из основных задач местного самоуправления [Council…, 2000].
Ландшафтное планирование с участием местного населения и, прежде всего, разработка ландшафтных планов местных территориальных самоуправлений, как отмечается в посвященной данной проблематике российско-германской монографии, является инструментом перехода к новым моделям социально-экономической стабилизации территорий. Этот процесс объективно способствует демократизации общества, в т.ч. его устойчивому, «экологически осмысленному сценарию развития» с учетом историко-культурной и религиозно-культовой значимости ландшафтов [Ландшафтное…, 2002, с. 3–9, 99].
Признавая актуальность и перспективность Европейской Конвенции о ландшафтах, Ю.А. Веденин и М.Е. Кулешова подчеркивают, что «сегодня далеко не все европейские страны, в том числе и Россия», готовы принять на себя сопутствующие ей обязательства. Причина этого заключается в отсутствии «организационно-правовой и управленческой базы», способной повлечь за собой «существенные изменения в управлении территориальным развитием». Лишь при условии полного перехода в поле «правового регулирования… реализации управленческих решений… согласования и консолидации интересов различных государственных ведомств», российский ландшафт, как пишут авторы, станет подлинным «объектом национального достояния, каковым он в полной мере до настоящего времени не является» [Веденин, Кулешова, 2004, с. 31–32].
Современная российская практика оценки нормативно-правового статуса ландшафтных святынь происходит, как правило, без участия местного населения и ограничивается констатацией ценности памятника как объекта природного наследия. В качестве примера можно привести одно из наиболее почитаемых мест Алтайского края – расположенный в Первомайском р-не (с. Сорочий Лог) родник – «святой ключ». По словам главы местного сельсовета В.Н. Иванова, в 2000 г. культовому месту был присвоен статус памятника природы регионального значения, а с 2002 г. его официальный статус повысился до памятника природы краевого значения (ПМА, 2022). Как сказано на сайте справочно-информационного центра «Экология» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки, указанный памятник выполняет ряд функций, важнейшей из которых признана водоохранная, связанная с регулированием уровня грунтовых вод и гидрологического режима территории. Помимо нее упомянуты также научная (памятник представляет интерес с точки зрения гидрологии), рекреационная (служит местом отдыха) и культовая (имеет священное значение) функции [Родник…, 2004].
Вместе с тем, как показывают многолетние полевые наблюдения, а также воссозданная история самого почитаемого места, роль данной ландшафтной святыни не может быть сведена лишь к перечисленным функциям. По своему значению родник в Сорочьем Логу является достопримечательным местом – памятником истории и культуры, объектом не только природного, но и культурного наследия. Отметим, что авторы недавней публикации, посвященной проблеме нормативно-правовой идентификации сакральных родников, также считают, что «знаменитый святой источник на Алтае», имеющий на сегодня только «охранный статус памятника природы», следует рассматривать в качестве одного из «объектов природного, материального и нематериального культурного наследия». Все это, по мнению исследователей, требует внимания «ученых, общественности… органов власти, а также внесения изменений в законодательство» [Труевцева, Булгаева, Гибельгаус, 2022, с. 99, 101].
В настоящее время прилегающий к роднику природно-сакральный комплекс включает в себя установленную рядом с ключом икону, купальню, деревянное распятие и скрытую в ближней роще братскую могилу, относящие ся к «сфере влияния» женского Иоан-но-Предтеческого скита, построенного неподалеку в постсоветские годы. Дважды в год в скиту проводятся крестные ходы, регулярно устраиваются паломнические поездки к святому ключу (ПМА, 2022).
Обладая рядом признаков, типичных для культового места (массовое паломничество, рассказы о чудесных исцелениях и явлении божественных ликов в святой воде и пр.), указанный локус, история которого насчитывает более ста лет, со временем приобрел дополнительные мемориальные свойства. Невозможность легитимного поминовения односельчан, погибших в ходе подавления крестьянского антибольшевистского восстания в годы Гражданской войны, привела к переосмыслению сложившегося народно-православного культа. Заданные большевиками жесткие рамки памяти на долгие годы табуировали данную тему (см.: [Чужими…, 2023, с.16]). По этой причине место гибели крестьянских повстанцев в народной исторической памяти стало отождествляться с сакральным объектом природы, а сами погибшие получили статус «мучеников за веру». Значимые этапы в истории почитаемого места (включая массовое паломничество к святому ключу в 1920-е гг., инициированную местными властями кампанию по его десакрализации в довоенное и послевоенное время, а также окончательную апроприацию территории официальными религиозными институтами в 1990-е гг.), изменили его символическое значение [Любимова, 2021, с. 810]. В доминирующем сегодня дискурсе родник в Сорочьем Логу воспринимается как место гибели не столько участников крестьянского восстания, сколько служителей религиозного культа – ср.: «в этих местах в смутные годы Гражданской войны расстреливали православных священников вместе с семьями и прихожанами» [Родник…, 2004]. Следствием «пере-изобретения» почитаемого места стало взаимное отчуждение ландшафтной святыни и местного населения, больше не считающего ее «своей».
В заключение обратим внимание на вопросы научной экспертизы в зарубежных практиках управления наследием. Как отмечается в предисловии к книге о ценностном подходе к исторической среде, рано или поздно подобные практики сталкиваются с проблемой того, чьи именно ценности должны лежать в основе этого процесса. Значимость исторического места определяется историческим опытом и памятью людей. Между тем, защита и сохранение наследия до сих пор базируются на «приоритете экспертного права». Нарратив о наследии, считают исследователи, должен строиться на основе диалога, предусматривающего «практики участия» (participatory practices) местных жителей при отборе охраняемых объектов [Gibson, Pendlebury, 2016, p. 7–8, 10]. Именно по этой причине «движение к вернакулярно сти» (move towards the vernacular) следует рассматривать как перспективный тренд, характеризующий все области управления наследием [Howard, 2016, p. 53, 57].
Список литературы Нормативно-правовой статус ландшафтных святынь: памятник природы или достопримечательное место?
- Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. Культурные ландшафты как категория наследия // Культурный ландшафт как объект наследия / под ред. Ю.А. Веденина, М.Е. Кулешовой. - М.: Институт Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. - С.13-36. EDN: VNAHYT
- Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия (16.11.1972). - URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 08.09.2023).
- Кормина Ж.В. Паломники: этнографические очерки православного номадизма. - М.: ВШЭ, 2019. - 350 с. EDN: MDFLEI
- Ландшафтное планирование: принципы, методы, российский и зарубежный опыт / А.Н. Антипов, А.В. Дроздов, В.В. Кравченко и др. - Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2002. - 141 с.
- Любимова Г.В. Культовые и мемориальные места в сельских ландшафтах Западной Сибири: вопросы соотношения и коллективной памяти // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. -Т. XXVII. - С. 806-811. EDN: YPFNSE