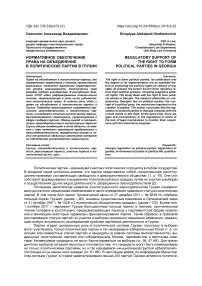Нормативное обеспечение права на объединение в политические партии в Грузии
Автор: Сивопляс Александр Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
Право на объединение в политические партии, его нормативное закрепление и степень практической реализации, являются важнейшей характеристикой уровня защищенности политических прав граждан любого государства. В республиках бывшего СССР идет реформирование политических систем, затрагивающее в том числе субъективные политические права. В статье речь идет о праве на объединение в политические партии в Грузии. Подробно анализируется современное грузинское законодательство о политических партиях, исследуется понятие политической партии, рассматриваются ограничения, существующие в сфере создания партий. Сделан вывод о соответствии законодательства о политических партиях Грузии общим тенденциям в этой области, но вместе с тем отмечены некоторые пробельность и непоследовательность нормативной основы в части отсутствия легальных механизмов контроля за соблюдением установленных ограничений.
Грузия, законодательство о политических партиях, регистрация партий, участие партий в политической жизни, ценз
Короткий адрес: https://sciup.org/149132734
IDR: 149132734 | УДК: 342.728:329(479.22) | DOI: 10.24158/tipor.2018.8.22
Текст научной статьи Нормативное обеспечение права на объединение в политические партии в Грузии
Сивопляс Александр Владимирович
Политические партии – важнейший участник политического процесса в любом государстве. В западной науке устоялось мнение, что партии представляют собой «существенную конституционно-правовую составляющую свободного и демократического общества» [1, p. 19]. Они способствуют формированию и выражению политической воли граждан путем их участия в выборах и осуществления других видов деятельности, разрешенных законодательством [2].
Последнее десятилетие развития конституционного законодательства Грузии ознаменовано достаточно серьезными изменениями в части определения правового статуса политических партий. В том числе был принят Органический закон от 27 декабря 2011 г. № 5636- რს «Избирательный кодекс Грузии» (далее – ИК), внесены существенные изменения в Органический закон от 31 октября 1997 г. № 1028 «О политических объединениях граждан» (далее – ОЗ). Более того, 1 октября 2017 г. парламент Грузии большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении поправки в конституцию, предусматривающие переход к парламентской форме правления и меняющие некоторые параметры функционирования партий. Таким образом, в правовом регулировании статуса партий, их участия в выборах произошли серьезные изменения, придающие особую актуальность исследованию проблем партийной деятельности в Грузии.
Партии играют центральную роль в политической системе Грузии, поскольку в выборах могут участвовать только политические партии и так называемые избирательные блоки (т. е. коалиции или совместные списки партий) и кандидаты (в рамках системы множественности), выдвинутые политической партией или избирательным блоком, парламентом и местными советами. Независимые кандидаты не могут баллотироваться на выборах (ст. 96, 97 ИК). Для президентских выборов ситуация несколько отличается тем, что кандидаты могут быть номинированы не только политическими партиями, но и так называемой «инициативной группой избирателей», состоящей из не менее пяти граждан (ст. 81 ИК). В настоящее время, по информации Министерства юстиции Грузии, в стране зарегистрировано свыше 200 партий. Однако активно в политиче- ской жизни участвуют лишь около 40. Например, в октябре 2016 г. в Грузии прошли парламентские выборы [3]. В них участвовали 37 партий. Мандаты, по данным ЦИК, получили лишь три из них: «Грузинская мечта», «Единое национальное движение» и партия «Альянс патриотов».
Каждый политический процесс должен иметь достаточную нормативную основу, так как только такой порядок может обеспечить надлежащую реализацию политических прав граждан. Современная Грузия строит демократическое государство, которое должно провозглашать и гарантировать своим гражданам набор определенных политических прав. Так, Конституция Грузии содержит несколько положений, посвященных политическим правам и свободам, в том числе избирательному праву, свободе собраний и ассоциаций. Политические партии упоминаются в п. 2 ст. 26 Конституции: «Граждане Грузии имеют право создавать политические партии, иные политические объединения и принимать участие в их деятельности». Декларация продублирована и на уровне законодательства. Так, статья 5 ОЗ гласит: «Каждый гражданин Грузии имеет конституционное право участвовать в формировании и функционировании партии». Имеется и легальное определение политической партии, под которой, согласно ст. 1 ОЗ, понимается «независимая и добровольная ассоциация граждан, созданная на общей идеологической и организационной основе и зарегистрированная в порядке, установленном Законом, для осуществления своей деятельности в рамках Конституции и законодательства Грузии». Таким образом, право на создание и участие в политических партиях провозглашено, и представляется возможным согласиться с утверждением, что в Грузии «праву на создание политических партий придается самостоятельный характер» [4, с. 20].
Однако демократизм государства характеризуется не содержанием деклараций, а уровнем реализации и нормативного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Формально действующее законодательство Грузии как раз направлено на детализацию порядка реализации исследуемого права граждан. Сегодня в Грузии на законодательном уровне урегулированы процессы создания партий, их регистрации, реорганизации и ликвидации, приостановления деятельности, финансирования и управления. Но возникает вопрос: насколько эти нормы позволяют реализовать и гарантировать право на участие в политических партиях?
Представляется возможным утверждать, что реализация права на создание политических партий и участие в их деятельности ограничена некоторыми нормативными положениями грузинского законодательства, причем такие ограничения касаются как граждан, так и собственно политических партий.
В силу прямого указания ст. 11 ОЗ, членство в политической партии не может быть ограничено по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, религии, национальной, этнической или социальной принадлежности, происхождения, имущественного положения, статуса рождения или места жительства [5]. Однако, согласно нормам действующего законодательства, политическое право на создание и участие в политических партиях ограничено рядом цензов. Во-первых, это ценз гражданства (статья 8 ОЗ предоставляет право на создание политических партий только гражданам Грузии). Таким образом, несмотря на отсутствие прямого запрета, иностранцам (к которым в том числе отнесены лица без гражданства) реализовать данное право на территории Грузии не представляется возможным. Думается, что данное ограничение вполне оправданно, так как политические партии являются основой для формирования органов государственной власти страны и, как следствие, запрет (пусть даже косвенный) на участие в политических партиях иностранных лиц позволяет минимизировать влияние иностранных политических сил на внутренние дела государства.
Во-вторых, законодательно установлен ценз политической дееспособности - учредить партию и участвовать в ее деятельности может только гражданин, обладающий избирательными правами. Однако ОЗ не указывает на активность и/или пассивность избирательных прав, исходя из чего можно сделать вывод, что право на создание политических партий зависит от активного избирательного права. Таким образом, данного права лишаются лица, не достигшие 18 лет, а также лица, признанные судом недееспособными или по приговору суда отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказания, так как именно эти категории лиц, в соответствии с положениями ст. 28 Конституции Грузии, лишены активного избирательного права. Оценивая данное ограничение, также следует констатировать его разумность, в очередной раз вспоминая основное предназначение любой политической партии. Как отмечают представители науки конституционного права, любая политическая партия обладает представительной природой [6, с. 39], так как через партию происходит реализация права граждан на участие в управлении делами государства. Поэтому вполне логичной представляется позиция законодателя, который ограничивает два права, позволяющие достигнуть одного и того же результата (участие в управлении делами государства), одинаковыми цензами.
В-третьих, это количественный ценз: статья 9 ОЗ содержит императивное правило, согласно которому то или иное лицо в один и тот же период времени получает возможность быть членом только одной политической партии. Представляется, что данный ценз, как и предыдущий, основан на аналогиях с избирательным правом: коль скоро политическая партия выполняет представительскую функцию, то одновременное участие одного и того же лица в нескольких политических партиях привело бы к «множественности» голосов одного лица. Исходя из этого, данное ограничение законодательства Грузии о политических партиях также следует признать разумным.
Вместе с тем отметим пробельность грузинского законодательства в данной сфере, связанную, во-первых, с отсутствием законодательного правила о том, что членство в политической партии для ряда лиц прекращается (или приостанавливается) при наступлении того или иного основания, а во-вторых, с недостаточным уровнем контроля за названными правилами реализации соответствующих политических прав. Так, в частности, если при регистрации политической партии информация о ее учредителях и членах проверяется уполномоченными органами, то впоследствии соблюдение данных требований уже фактически не отслеживается, и, соответственно, лица, ранее включенные в число членов политической партии, могут потерять активное избирательное право, но при этом продолжать оставаться членом той или иной политической партии. Думается, что если законодатель принял решение ограничивать право на участие в политических партиях подобными цензами, то ему следует предусмотреть и механизм контроля за реализацией соответствующих требований. В качестве такового можно использовать механизм, предусмотренный ИК для составления избирательных списков. Этот механизм можно применять в совокупности с введением в отношении политических партий не только финансовой отчетности, но и отчетности по членам, в ходе проверки которой уполномоченный орган будет иметь возможность указать партии на тех членов, которые уже утратили соответствующее право в связи с утратой гражданства, лишением дееспособности или осуждением к лишению свободы. В этом случае ограничения, введенные законодателем, не только будут иметь значение при регистрации политической партии, но и позволят контролировать законность ее существования на протяжении всего периода ее функционирования.
Помимо указанных цензов, статья 10 ОЗ предусматривает профессиональный ценз, ограничивая возможность участия в политических партиях лиц, относящихся к Вооруженным силам, органам внутренних дел, Службе государственной безопасности Грузии. Также такого права лишены офицеры со специальными полномочиями в Министерстве финансов Грузии, офицеры Специальной пенитенциарной службы Министерства исправительных учреждений Грузии, судьи, прокуроры. Для всех указанных категорий лиц членство в политической партии прекращается (не приостанавливается (!)) с момента назначения на соответствующую должность. Однако также законодатель не предусмотрел механизма, позволяющего самой политической партии отслеживать наступление соответствующих фактов.
Помимо особенностей реализации субъективного права на участие в деятельности политических партий, законодательство Грузии предусматривает ограничения материального и процессуального характера, относящиеся собственно к самим политическим партиям.
Среди материальных ограничений наибольшее значение имеют количественные ограничения, к которым отнесены требования о минимальном количестве учредителей (часть 1 ст. 12 ОЗ устанавливает минимальное количество учредителей на отметке 300 человек) и минимальном количестве членов партии (пункт «в» ч. 2 ст. 22 ОЗ говорит о необходимости представить для регистрации список из 1000 членов партии). Следует отметить, что практика ограничения минимальной численности членов партии - достаточно «стандартное» явление для постсоветского пространства и для европейских стран в целом. Так, к примеру, в России законодательно установлена минимальная численность политической партии в 500 членов. Один из самых низких порогов установлен в Турции - там для организации политической партии достаточно 30 членов. В Румынии же, напротив, требования весьма высоки: для создания политической партии необходимо участие в ней не менее 25 000 человек. Вместе с тем достаточное количество стран, в том числе «европейские лидеры» (Австрия, Франция, Германия, Италия и Испания), не предъявляют каких-либо требований к минимальной численности политической партии.
Интересно, что данный вопрос был предметом рассмотрения на уровне высших судебных инстанций, в том числе Конституционного суда Российской Федерации, Европейского суда по правам человека и ряда других. Все они приходили к выводу, что законодатель вправе устанавливать такие ограничения, руководствуясь задачами развития политической системы, но при условии, что не будет происходить умаление конституционного права граждан на объединение в политические партии или его несоразмерное ограничение. Представляется, что при общей численности населения Грузии в 4 млн человек [7] численный ценз в 1000 человек для политической партии вполне соразмерен, так как он составляет фактически 0,025 % всего населения (для сравнения в Румынии, являющейся членом Совета Европы, этот показатель составляет 0,1 %, т. е. нормативно установленный и фактически признанный правоприменительной практикой ценз румынского законодательства превышает ценз, установленный в Грузии, в 4 раза).
Другим материально-правовым ограничением являются нормативные запреты на создание политических партий: целевой (в соответствии с императивным указанием ст. 5 ОЗ, запрещены создание и функционирование партий, целью которых является «свержение или насильственное изменение конституционного порядка Грузии или ущемление независимости и территориальной целостности страны, а также проведение или пропаганда войны или насилия или разжигание национальной, этнической, религиозной или социальной розни») и территориальный (в ст. 6 ОЗ закреплен запрет создания партии на региональной или территориальной основе).
К ограничениям процедурного характера можно отнести четко регламентированную процедуру создания политической партии (в том числе принятия решения о ее создании) и разрешительно-регистрационную систему образования политических партий. Порядок принятия решения о создании политической партии четко регламентирован нормами ст. 12, 13 ОЗ. Процедура создания политической партии достаточно типична (законодатель предусмотрел проведение учредительного собрания, утверждение устава, избрание руководящих органов). Однако, учитывая необходимость подтверждения легального характера проведенного собрания и принятых на нем решений, частью 3 ст. 12 ОЗ предусмотрена необходимость обязательного участия в работе учредительного собрания нотариуса, который должен удостоверить протокол с решением о создании политической партии. Для регистрации партия должна предоставить в Национальное агентство публичного реестра (Минюст Республики) документы согласно перечню, определенному ОЗ, которые рассматриваются в течение 1 месяца. При этом если за указанный срок заявитель не был уведомлен об отказе в регистрации, то политическая партия считается зарегистрированной даже в том случае, если уполномоченный орган не успел принять решение о регистрации. Тем самым государство обеспечивает защиту прав и законных интересов партии. В свою очередь, государственные органы и должностные лица не могут вмешиваться в деятельность партии, за исключением случаев, предусмотренных законом [8].
Таким образом, констатируем, что в Грузии имеется достаточно развитое конституционное законодательство о партиях, которое в целом соответствует общим тенденциям в этой сфере. Все ограничения, установленные законодателем, представляются обоснованными и фактически не являются новацией грузинского законодательства. Учитывая тот факт, что партийная история Грузии (так же как и России) «не изобилует сколько-нибудь продолжительными периодами, в течение которых политические партии могли свободно создаваться и развиваться» [9, с. 148], представляется возможным утверждать, что Грузия фактически заимствовала нормативный опыт, в силу чего ее законодательство о политических партиях вполне соответствует общемировым тенденциям. Вместе с тем отметим пробельность и непоследовательность грузинского законодательства, выражающиеся в отсутствии реальных нормативных механизмов контроля за соблюдением установленных цензов не только в момент регистрации политической партии, но и в период ее функционирования.
Ссылки:
-
1. Political Handbook of the World 2015 / ed. by T. Lansford. Thousand Oaks, CA, 2015. 1888 p.
-
2. Малюгин С.В. Категория «правовая природа»: понятие, детерминанты, основные характеристики и подходы к опре
делению // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 46–58.
-
3. Выборы в Грузии 2016: что дальше? [Электронный ресурс] // Sputnik. 2016. 2 нояб. URL: https://sputnik-georgia.ru/pol-itics/20161010/233462799/Vybory-v-Gruzii-2016-chto-dalshe.html (дата обращения: 24.07.2018).
-
4. Сойфер Т.В. Некоммерческое юридическое лицо как форма реализации конституционного права на объединение // Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 18–29.
-
5. Jahresbericht. Annual Report 2016 [Электронный ресурс]. 132 p. URL: https://www.irz.de/images/downloads/jahresber- ichte/2016_irz_jahresbericht.pdf (дата обращения: 15.08.2018) ; Georgia Constitutional Law: Questions and Answers [Электронный ресурс] // Justia: Ask a Lawyer. URL: https://answers.justia.com/questions/answered/georgia/constitutional-law (дата обращения: 15.08.2018).
-
6. Ерыгина В.И. Государственно-правовая доктрина о представительной природе политических партий: концептуальные закономерности и отклонения в практике их реализации // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8. С. 37–41.
-
7. Population [Электронный ресурс] // National Statistics Office of Georgia. URL: http://geostat.ge/index.php?ac-
(дата обращения: 10.08.2018).
-
8. Фетюков Ф.В. Понятие механизма взаимодействия государства и гражданского общества // Гражданское общество
в России и за рубежом. 2015. № 3. С. 18–20.
-
9. Саликов М.С. Партийная система России: динамика конституционно-правового регулирования // Российский юриди
ческий журнал. 2012. № 4. С. 148–155.
Список литературы Нормативное обеспечение права на объединение в политические партии в Грузии
- olitical Handbook of the World 2015 / ed. by T. Lansford. Thousand Oaks, CA, 2015. 1888 p.
- Малюгин С.В. Категория «правовая природа»: понятие, детерминанты, основные характеристики и подходы к определению // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 46-58.
- Выборы в Грузии 2016: что дальше? [Электронный ресурс] // Sputnik. 2016. 2 нояб. URL: https://sputnik-georgia.ru/politics/20161010/233462799/Vybory-v-Gruzii-2016-chto-dalshe.html (дата обращения: 24.07.2018).
- Сойфер Т.В. Некоммерческое юридическое лицо как форма реализации конституционного права на объединение // Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 18-29.
- Jahresbericht. Annual Report 2016 [Электронный ресурс]. 132 p. URL: https://www.irz.de/images/downloads/jahresberichte/2016_irz_jahresbericht.pdf (дата обращения: 15.08.2018).
- Georgia Constitutional Law: Questions and Answers [Электронный ресурс] // Justia: Ask a Lawyer. URL: https://answers.justia.com/questions/answered/georgia/constitutional-law (дата обращения: 15.08.2018).
- Ерыгина В.И. Государственно-правовая доктрина о представительной природе политических партий: концептуальные закономерности и отклонения в практике их реализации // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 8. С. 37-41.
- Population [Электронный ресурс] // National Statistics Office of Georgia. URL: http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng (дата обращения: 10.08.2018).
- Фетюков Ф.В. Понятие механизма взаимодействия государства и гражданского общества // Гражданское общество в России и за рубежом. 2015. № 3. С. 18-20.
- Саликов М.С. Партийная система России: динамика конституционно-правового регулирования // Российский юридический журнал. 2012. № 4. С. 148-155.