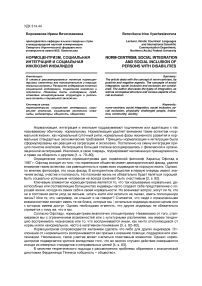Нормоцентризм, социальная интеграция и социальная инклюзия инвалидов
Автор: Боровикова И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие нормоцентризма, отмечены его положительные и отрицательные аспекты. Раскрыто содержание понятий социальной интеграции, социальной инклюзии и эксклюзии. Показаны типы интеграции, представлена концептуальная структура и различные аспекты социальной эксклюзии.
Нормоцентризм, социальная интеграция, социальная инклюзия, социальная эксклюзия, инвалиды, индикаторы, общность, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14940837
IDR: 14940837 | УДК: 314.44
Текст научной статьи Нормоцентризм, социальная интеграция и социальная инклюзия инвалидов
Нормализация, интеграция и инклюзия подразумевают подчинение или адаптацию к так называемому обычному, нормальному. Нормализация уделяет внимание таким аспектам «нормальной жизни», как нормальный суточный ритм, нормальные фазы жизненного развития и нормальные стандартные экономические требования. Принципы нормализации и интеграции были сформулированы как реакция на сегрегацию и эксклюзию. Постепенно на смену интеграции пришло понятие инклюзии. Интеграция в большей степени ассоциировалась с физической и организационной интеграцией. Инклюзия, в свою очередь, подчеркивает несомненную принадлежность и право на общность с другими [1, s. 79–80].
Определение понятию нормоцентризма дал норвежский философ Харальд Офстад в 1987 г. Офстад исходит из того, что норвежское общество имеет демократический фасад, уделяя внимание таким аспектам, как равноценность и право всех индивидов на хорошую жизнь. Однако, по мнению философа, это лишь фасад. В конкурентном обществе в первую очередь имеют значение вклад, участие и полезность. Но полезная жизнь не обязательно будет являться хорошей. Быть социально успешным человеком не всегда означает быть счастливым [2, s. 82].
Ключевым элементом нормоцентризма является то, что так называемые нормальные, дееспособные или составляющие большинство индивиды часто создают себе представление о хорошей жизни, исходя из самих себя и своей нормальности. Но возникает вопрос, могут ли те, кто не в состоянии вести уход за жильем, читать книги или кататься на лыжах, иметь полноценную жизнь? Или те, кто, например, не слышит и не говорит? Считается, что люди с ограниченными возможностями желают иметь те же блага, которые мы / остальные индивиды высоко ценим или к которым имеем доступ. Однако необходимо отметить, что другие индивиды не обязательно стремятся к тому же, что и мы.
Согласно Офстаду, нормоцентризм аналогичен этноцентризму. Независимо от того, сталкиваемся мы с ограничением возможностей или с культурными различиями, мы имеем тенденцию воспринимать незнакомое или то, что воспринимается иным, как нечто отклоняющееся от нормы и/или ненормальное, часто в негативном понимании [3, s. 82–83].
Нормоцентризм сопровождается желанием сделать что-либо для других индивидов. Отклонение от «нормального» воспринимается как призыв к оказанию помощи, поддержки или компенсации. Несомненно, такое участие может считаться позитивным моментом. Однако нормо-центризм подвергается критике вследствие того, что во многих случаях действия совершаются исходя из неверных стандартов и неправильных целей [4, s. 83].
В качестве теоретического подхода к рассмотрению проблемы обратимся к классической дихотомии Фердинанда Тённиса «общность – общество».
В общности индивиды склонны воспринимать друг друга такими, какими они являются, они знают и могут взять ответственность друг за друга. В обществе отношения базируются в большей степени на договорной основе с возможностями выбора. Это отличие можно сравнить с противопоставлением коллективизма и индивидуализма. В то время как общность означает единение, эмоциональные связи и близость, общество означает конкуренцию, законность и деловую ориентацию. В обществе многое становится объектом рефлексии, выбора и переговоров, и лишь немногое принимается как нечто очевидное [5, s. 87].
Жизнь в современных городах часто рассматривается как типичное проявление общества. Работа по найму и возросшая мобильность способствуют тому, что индивиды, имеющие мало общего, становятся соседями в современных районах проживания. Склонность выбирать, а в особенности не выбирать индивидов, находящихся в непосредственной близости, в значительной мере является предпосылкой проживания в таких районах. Расположение в непосредственной близости не приводит автоматически к социальной близости [6, s. 88].
Тема нормоцентризма становится актуальной в связи с понятием общности как недифференцированного общества с относительно однородным образом жизни. Индивиды, не относящиеся к общности, но желающие стать ее частью, должны принять ее обычаи. Несомненно, существуют индивиды, которые воспринимаются как другие, также и в традиционных, местных общностях. Им отводится место, в большей степени укрепляющее и ограничивающее нормальность, чем расширяющее ее рамки [7, s. 89].
Индивиды общества соотносят себя с множеством людей, ролей, идентичностей и способов поведения. Это означает, что нормальности бросается вызов, и это понятие расширяется. Способ поведения и понимание индивида представляют собой один из нескольких возможных вариантов. Таким образом, это может являться источником неуверенности и растерянности, но одновременно может представлять источник для расширения перспектив, нового мышления и роста терпимости к различиям. Так общество содействует проблематизации различных форм нормоцентризма и этноцентризма [8].
Рассмотрим далее понятие «интеграция», значение которого зависит от контекста. В отношении инвалидов интеграция может считаться их участием на обычных аренах взаимодействия, как, например, в детских садах и школах [9, s. 116].
Интеграция может применяться в отношении индивидов или административных программ. В последнем случае это считается организационной или административной интеграцией. Данный тип интеграции не относится напрямую к индивиду, поэтому не показывает, как происходит интеграция индивида на практике. В случае применения интеграции в отношении индивидов важно обратить внимание на разграничение физических и социальных аспектов.
При нахождении инвалидов на одной социальной арене с другими и отсутствии препятствий для взаимодействия в виде физического местоположения речь идет о физической интеграции. Обычно физическая интеграция должна присутствовать для того, чтобы инвалид имел хороший контакт с остальными людьми. Однако это не обязательно приводит к социальной интеграции.
Административная интеграция устанавливает нормы физической и социальной интеграции, поскольку инвалиды часто зависят от административных условий для начала процесса физической и социальной интеграции.
Также выделяют функциональную и общественную интеграцию. Так, инвалиды функционально интегрированы, когда они могут воспользоваться общими благами, как, например, общественный транспорт и торговые центры. Общественная интеграция означает, что инвалиды участвуют в трудовой и корпоративной жизни.
Различные формы интеграции взаимосвязаны. Функциональная и общественная интеграция не обязательно приводит к социальной интеграции. Несмотря на то что инвалиды могут передвигаться по улице, ездить на автобусе и участвовать в трудовой жизни, они по-прежнему могут испытывать социальную изоляцию [10, s. 116–117].
В конце 1990-х гг. понятие «интеграция» в отношении инвалидов вытесняется понятием «инклюзия». Все внимание сосредоточивается на окружающей среде в соответствии с социальной моделью инвалидности. Так, в отношении школы инклюзия – это программа по ее изменению с тем, чтобы она была лучше адаптирована ко всем ученикам, таким образом увеличивая многообразие. Аналогично инклюзивная трудовая жизнь создает трудовую жизнь, способствующую росту многообразия [11, s. 106].
Обратимся далее к социальной инклюзии и социальной эксклюзии. Эти понятия часто рассматриваются как неотделимые части одного целого. Инклюзия рассматривается как желаемый результат или стратегия для борьбы с социальной эксклюзией, в то время как эксклюзия считается проявлением плохой социальной сплоченности. Итак, социальная инклюзия нередко определяется как противоположность социальной эксклюзии [12, p. 35].
Концептуальная структура социальной эксклюзии, включающей пять элементов, была предложена Т. Бурчардт и др. Социальная эксклюзия интерпретируется в виде социального и гражданского участия и включает потребление, сбережение, производство, политическую и социальную активность. На способность индивида участвовать в этих видах деятельности будет влиять ряд взаимосвязанных факторов, включая личный опыт и историю жизни, характеристики территории проживания и социальные, гражданские и политические институты, с которыми приходится взаимодействовать.
Очевидно, что социальная эксклюзия не может быть концептуализирована отдельно от экономических, социальных, политических, районных и пространственных, индивидуальных и групповых факторов. Так, экономический фактор определяется отсутствием достаточного дохода и безработицей вдобавок к макроизменениям в экономике и на рынке труда. Социальный аспект определен как разрушение социальных норм и выражен в девиации и преступлениях. Политический аспект отражен в способности индивидов участвовать или принимать решения, влияющие на их жизнь. Районный и пространственный аспект социальной эксклюзии представляет неспособность местных служб поддержки предоставлять хорошее жилье и услуги, направленные на борьбу с запущенностью и разрушением.
Все аспекты социальной эксклюзии оказывают влияние на индивида и выражаются в плохом здоровье (физическом и психическом), индикаторах образования и развития карьеры (результаты ниже ожидаемых) и низкой самооценке.
Наконец, групповой аспект социальной эксклюзии выражен в том или ином отличии от доминирующего населения или маргинализации с точки зрения социального статуса [13, p. 37].
Итак, социальная инклюзия и эксклюзия многогранны. Социальная эксклюзия часто связана неблагоприятным образом с бедностью и определенными нормами социальной, экономической и политической деятельности и имеет отношение к индивидам, домохозяйствам, районам и группам населения. Социальная эксклюзия может быть измерена при помощи набора относительных индикаторов, демонстрирующих разрыв между исключенными субпопуляциями и остальной частью общества.
Исследования в области социальной инклюзии и социальной эксклюзии инвалидов относительно новы. Большинство современных исследователей предлагают использование выборочных относительных индикаторов для измерения разрыва между инвалидами и неинвалидами как на национальном, так и на международном уровне. К ключевым индикаторам, применяемым в работах исследователей, относятся образование, доход, занятость, участие в гражданской жизни и социальное участие [14, p. 54].
Таким образом, в заключение отметим необходимость контролировать присущую индивидам склонность к нормоцентризму. Цель состоит не в том, чтобы жить как большинство, но в том, чтобы все, включая инвалидов, могли являться частью общества, не отказываясь при этом от своей идентичности и индивидуальности.
Ссылки:
-
1. Utenfor regelen. Spesialpedagogikk i historisk perspektiv / E. Simonsen, B.H. Johnsen (red.). Oslo, 2007. 278 s.
-
2. Ibid. S.82.
-
3. Ibid. S. 82–83.
-
4. Ibid. S.83.
-
5. Ibid. S.87.
-
6. Ibid. S.88.
-
7. Ibid. S.89.
-
8.Ibid.
-
9. Kassah A.K., Kassah B.L.L. Funksjonshemning. Sentrale ideer, modeller og debatter. Oslo, 2009. 236 s.
-
10. Ibid. S. 116–117.
-
11. Tøssebro J. Hva er funksjonshemming. Oslo, 2010. 141 s.
-
12. Rimmerman A. Social Inclusion of People with Disabilities. National and International Perspectives. Cambridge, 2014. 182 p. 13. Ibid. P. 37.
-
14. Ibid. P. 54.
Список литературы Нормоцентризм, социальная интеграция и социальная инклюзия инвалидов
- Utenfor regelen. Spesialpedagogikk i historisk perspektiv/E. Simonsen, B.H. Johnsen (red.). Oslo, 2007. 278 s.
- Kassah A.K., Kassah B.L.L. Funksjonshemning. Sentrale ideer, modeller og debatter. Oslo, 2009. 236 s.
- T0ssebro J. Hva er funksjonshemming. Oslo, 2010. 141 s.
- Rimmerman A. Social Inclusion of People with Disabilities. National and International Perspectives. Cambridge, 2014. 182 p.