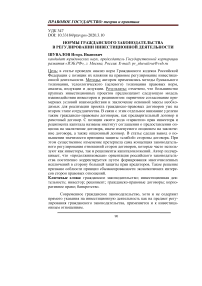Нормы гражданского законодательства в регулировании инвестиционной деятельности
Автор: Шувалов Игорь Иванович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 3 (61), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель: в статье проведен анализ норм Гражданского кодекса Российской Федерации с позиции их влияния на правовое регулирование инвестиционной деятельности. Методы: автором применялись методы буквального толкования, телеологического (целевого) толкования правовых норм, анализа, индукции и дедукции. Результаты: отмечено, что большинство крупных инвестиционных проектов предполагают следующую модель взаимодействия инвесторов и реципиентов: первичное согласование примерных условий взаимодействия и заключение основной массы необходимых для реализации проекта гражданско-правовых договоров уже на втором этапе сотрудничества. В связи с этим отдельное внимание уделено таким гражданско-правовым договорам, как предварительный договор и рамочный договор. С позиции своего рода «гарантии» прав инвестора и реципиента капитала названы институт соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, иначе именуемого опционом на заключение договора, а также опционный договор. В статье сделан вывод о повышении значимости принципа защиты «слабой» стороны договора. При этом существенное изменение претерпела сама концепция законодательного регулирования отношений сторон договоров, которые часто используют как инвесторы, так и реципиенты капиталовложений. Автор подчеркивает, что «продолжниковская» ориентация российского законодательства постепенно корректируется путем формирования многочисленных исключений в сторону большей защиты прав кредиторов. Такое решение призвано соблюсти принцип сбалансированности экономических интересов сторон правовых отношений.
Гражданское законодательство, инвестиционная деятельность, инвестор, реципиент, гражданско-правовые договоры, корпоративное право, банкротство
Короткий адрес: https://sciup.org/142232934
IDR: 142232934 | УДК: 347
Текст научной статьи Нормы гражданского законодательства в регулировании инвестиционной деятельности
Современное гражданское законодательство, хотя и не содержит прямого указания на инвестиционную деятельность как на предмет регулирования гражданского законодательства, применяется и к инвестиционным отношениям.
Во-первых, под действие гражданского законодательства однозначно подпадает предпринимательская деятельность с участием государства и муниципальных образований, в том числе деятельность по привлечению инвестиций 1 .
Во-вторых, к предмету действия гражданского законодательства относятся нормы корпоративного права, которые регулируют отношения, в том числе в сфере оборота прав участия в уставном капитале корпоративных юридических лиц (акций, долей, паев), что также является одной из форм инвестирования.
В-третьих, нормами ГК РФ регулируются абсолютные правоотношения инвесторов-собственников (и иных обладателей имущественных прав на объекты недвижимости) с государством, обладателями имущественных прав на соседние объекты недвижимого имущества и третьими лицами.
В-четвертых, договоры, регулирующие отношения инвесторов и реципиентов капитала, априори подпадают под действие положений гражданского законодательства. Принцип свободы договора предполагает, в том числе заключение смешанных договоров и непоименованных договоров, к которым относится большинство договоров между инвестором и реципиентом.
Большинство крупных инвестиционных проектов предполагают следующую модель взаимодействия инвесторов и реципиентов: первичное согласование примерных условий взаимодействия и заключение основной массы необходимых для реализации проекта гражданско-правовых договоров уже на втором этапе сотрудничества 2 .
Так, ГК РФ предусматривает предварительный договор (ст. 429), обязывающий стороны заключить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных этим предварительным договором; рамочный договор, иначе называемый договором с открытыми условиями (ст. 429.1), определяющий общие условия будущих обязательственных взаимоотношений сторон, которые подлежат конкретизации и уточнению сторонами путем заключения отдельных договоров или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, применяются общие условия рамочного договора, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.
Также в качестве своего рода «гарантии» прав инвестора и реципиента капитала можно назвать условные сделки (под отлагательным и отменительным условиями). Однако проблема их использования в инвестиционной деятельности состояла в неопределенности юридической допустимости «потестативного условия» (условия, целиком или полностью зависящего от другой стороны) в такого рода сделках [1, с. 202–211]. В определенном смысле альтернативой стало введение института соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, иначе именуемое опционом на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ), а также опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ). Наконец, вступила в юридическую силу ст. 327.1 ГК РФ, легализовавшая обусловленное исполнение обязательств, в том числе условиями, полностью зависящими от одной из сторон.
Однако подходы остаются неоднозначными как в доктрине, так и в судебной практике 3 . Возникают квалификационные трудности в отделении в каждом случае потестативных условий условной сделки от встречного договорного обязательства. Например, В.В. Витрянский считает ошибочным подход, согласно которому договоры, предусматривающие обусловленное исполнение обязательств, отождествляются со сделками с отлагательными (отменительными) условиями [2]. А.Г. Карапетов, напротив, считает, что проблема решена именно с вступлением в юридическую силу ст. 327.1 ГК РФ [5].
Следует отметить, что отсутствие правового регулирования ведет к перехвату инвестором инициативы в определении условий сделки. Во избежание этого гражданское законодательство серьезно повысило значимость принципа защиты «слабой» стороны договора.
Существенное изменение претерпела сама концепция законодательного регулирования отношений сторон договоров, которые часто используют как инвесторы, так и реципиенты капиталовложений: договоры, сконструированные по модели договоров присоединения; договоры, заключенные на основе предварительных договоров; договоры, заключенные на основе типовых условий; рамочные договоры. При этом сторона договора, формирующая его условия, старательно подчеркивала в текстах договоров право другой стороны на его расторжение и изменение его условий или вообще включала в договор прямое указание на отсутствие юридической характеристики договора присоединения. В результате сторона, фактически лишенная возможности внести изменения в текст договора, лишалась и прав, предоставленных законодательством стороне, присоединяющейся к договору.
ГК РФ указал на то, что договор, условия которого определены исключительно одной из сторон, тогда как другая сторона в силу очевидного неравенства переговорных возможностей не имеет возможности согласовать иные условия такого договора, является договором присоединения 4 . В свою очередь, судебная практика 5 позаимствовала из Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА правило contraproferentem – о приоритете толкования договора не в пользу стороны, сформировавшей его условия 6 .
Вместе с тем нельзя не отметить и противоположной тенденции: ставшая практически locuscomunis 7 «продолжниковская» ориентация российского законодательства (защита «слабой» стороны договора, более выгодное положение обычного физического лица по сравнению с физическим лицом – субъектом предпринимательской деятельности) постепенно корректируется путем формирования многочисленных исключений в сторону защиты прав кредиторов. Такое решение призвано соблюсти принцип сбалансированности экономических интересов сторон правовых отношений.
Очевидно и то, что чрезмерная «патерналистская» защита должника российским законодательством в конечном счете приведет к снижению заинтересованности потенциальных инвесторов – сотрудничество с лицом, которое пользуется своего рода иммунитетом от судебного преследования и останется фактически безнаказанным при неисполнении (ненадлежащем исполнении) им своих обязательств, проигрывает перспективе взаимодействия с лицом, не обладающим такими привилегиями. Это повлечет за собой если не отказ от заключения сделок, то заметное удо- рожание процедур их заключения, что неминуемо отразится на стоимости товаров и услуг для потребителя.
Дополнительным катализатором изменений такого подхода стало предоставление ФНС права залога на арестованное по налоговым долгам имущество должника. В 2020 г. вступили в юридическую силу поправки в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми ФНС приобретает право залога на арестованное по налоговым долгам имущество должника. Очевидно, что заинтересованность государства в определенном решении данного вопроса окажет влияние на содержание правового регулирования в целом. Ввиду того, что гражданское законодательство приравнивает реципиентов капитала к обычным участникам гражданского права, суды будут вынуждены унифицировать подходы к решению этого вопроса именно в пользу унификации правового статуса кредитора.
Такое нововведение объясняется неуклонным снижением процента удовлетворенных требований кредиторов при банкротстве должников. Так, в январе-сентябре 2019 г. доля погашенных требований незалоговых кредиторов банкрота составила 2,4 % (против 4,2 % в 2018-м), залоговых – 32,4 % (против 38,6 %) 8 . При этом субсидиарная ответственность субъектов гражданского права по российскому гражданскому законодательству существенно ужесточилась за счет доктрины «снятия корпоративной вуали», а также за счет отказа российских арбитражных судов от формализма при определении наличия контроля одного лица за другим, что выразилось в преобразовании фактической связи между юридическими лицами холдинга в юридически значимый факт, оказывающий влияние на содержание судебных решений. Нельзя не отметить и тот факт, что банкротство чаще всего не является показателем реального финансового состояния холдинга 9 .
В современном гражданском законодательстве повышен уровень правовой защиты добросовестных приобретателей недвижимого имущества. Вряд ли откровением станет то, что значительная доля инвестиций осуществляется путем приобретения недвижимого имущества – приобретатель недвижимости, который ознакомился с данными государственных реестров и основывался на этой информации, предполагается добросовестным приобретателем, пока в судебном порядке не доказана его осведомленность (предполагаемая осведомленность) об отсутствии права на приобретаемое им недвижимое имущество у отчуждателя имущества в его пользу 10 .
Кроме того, органы государственной власти (местного самоуправления) утратили, в соответствии с новой редакцией ч. 4 ст. 302 ГК РФ, право истребовать жилое помещение у добросовестных приобретателей – частных лиц с истечением срока исковой давности (три года) с даты регистрации права собственности первого добросовестного приобретателя жилого помещения. По общему правилу гражданского законодательства (ч. 2 ст. 199 ГК РФ), применение исковой давности возможно исключительно по заявлению ответчика в суде первой инстанции 11. Применительно же к норме ч. 4 ст. 302 ГК РФ суд обязан это сделать в любом случае, независимо от факта подачи заявления о применении исковой давно- сти от ответчика по данному иску.
Еще ранее был законодательно расширен перечень имущественных прав, которые были отделены законодателем от вещных прав. Таковыми стали права на безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и ц 1и2ф ровые права, причем перечень имущественных прав остался открытым .
Вместе с тем российское гражданское законодательство пополнилось новыми организационно-правовыми формами юридических лиц и новыми видами договоров, регулирующих объединение активов без образования юридического лица.
Эти изменения направлены на оптимизацию правовых форм сотрудничества по российскому праву с целью достижения максимальной свободы усмотрения сторон. Стоит отметить, что данная тенденция наблюдается во многих странах 13 .
В частности, заслуживает внимания норма ч. 9 ст. 67.2 ГК РФ, предоставляющая третьим лицам право заключать с обладателями корпо- ративных прав договор, обязывающий их действовать в интересах этих третьих лиц.
Любопытно при этом, что лоббистская деятельность в органах государственной власти не получила законодательного закрепления на федеральном уровне (оставаясь одной из немногих сфер усмотрения исключительно субъектов Российской Федерации), зато, очевидно, нашла воплощение на федеральном уровне в праве гражданском, которое декларирует невластный характер регулируемых им отношений 14 . Это косвенно подтверждает теорию, высказанную итальянским исследователем Уго Пагано (Pagano) о том, что правовой статус юридических лиц производен от государства 15 .
Современное гражданское законодательство, несмотря на то, что одним из частных проявлений принципа свободы договора является свобода выбора сторонами видов договора, систематически пополняется новыми видами договоров, в том числе теми, которые представляют собой переходную форму между договорной и корпоративной формой сотрудничества. Это, прежде всего, корпоративные договоры и договор об инвестиционном товариществе.
Стоит отметить, что разнообразие правовых форм сотрудничества государства и инвесторов проявляется и в создании территорий с особым режимом осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ОЭЗ, ТОРы, ТОСЭРы, наукограды, технопарки). И хотя основной юридический raisond`etre 16 этих территорий лежит в сфере действия публичного права (финансовое, бюджетное, налоговое законодательство), именно нормами гражданского законодательства регулируются отношения по предоставлению государственной поддержки резидентам зон территориального развития 17, соглашения об осуществлении того или иного вида деятельности на территории ОЭЗ, соглашение об управлении особой экономической зоной и т. д.
Слабая предсказуемость событий как юридических фактов, ставшая своего рода «визитной карточкой» нового десятилетия XXI века, неминуемо оказывает влияние на исполнение гражданско-правовых обязательств инвесторов и реципиентов. В связи с этим особое внимание в современном правовом регулировании уделяется их обеспечению – ситуация на мировом инвестиционном рынке вызывает к жизни не столько самые гибкие, сколько самые надежные из способов обеспечения исполнения обязательств инвестора перед государством, такие как залог и независимая (банковская) гарантия. Так или иначе, формы обеспечения исполнения обязательств находятся в сфере действия именно норм гражданского права.
Таким образом, нормы гражданского законодательства, несмотря на свой общий характер, абстрактные формулировки и значительный рост удельного веса норм публичного права в инструментарии правового регулирования инвестиционных отношений играют достаточно важную роль в правовом регулировании инвестиционной деятельности. В целом нормы гражданского законодательства непосредственно или опосредованно оказывают влияние на инвестиционный климат в стране и зачастую играют определяющую роль при принятии инвесторами решений об осуществлении собственно инвестиционной деятельности на территории, где они применяются.
Список литературы Нормы гражданского законодательства в регулировании инвестиционной деятельности
- Абаринова М.Д. Потестативные условия сделки в некоторых договорных обязательствах // Власть Закона. 2017. № 4. С. 202-211.
- EDN: YUPKAR
- Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018.
- Зинченко С.А. Проблемы правового статуса хозяйственного общества и его членов, заключивших корпоративный договор // Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом: сборник научно-практических статей II Международной научно-практической конференции (22 апреля 2015 года, г. Москва) / Е.А. Абросимова, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой. М.: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Юридический факультет им. М.М. Сперанского. М.: Юстицинформ, 2015.
- Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 1975.
- Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин и др.; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2018. [Электронное издание. Редакция 1.0].
- Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de derecho civil: vol. III. Ed. Tecnos (7a. ed.). Madrid, 2001.