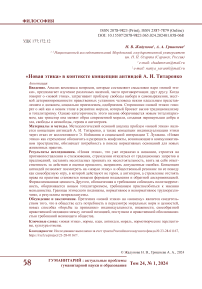«Новая этика» в контексте концепции антиидей А. И. Титаренко
Автор: Жадунова Н.В., Гришнева А.А.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Анализ комплекса вопросов, которые составляют смысловое ядро «новой этики», предполагает изучение различных явлений, часто противоречащих друг другу. Когда говорят о «новой этике», затрагивают проблему свободы выбора и самовыражения, жесткой детерминированности нравственных установок человека неким идеальным представлением о должном, социально приемлемом, одобряемом. Сторонники «новой этики» говорят о ней как о новом этапе в развитии морали, который бросает вызов традиционализму и тоталитаризму. Однако категоричность этого вызова оборачивается новым тоталитаризмом, как трикстер она меняет образ современной морали, создавая перевертыши добра и зла, свободы и несвободы, героев и антигероев.
«новая этика», нормы, идеи, антиидеи, мораль, нормотворческие перспективы, культура отмены
Короткий адрес: https://sciup.org/147243158
IDR: 147243158 | УДК: 177, | DOI: 10.15507/2078-9823.065.024.202401.058-068
Текст научной статьи «Новая этика» в контексте концепции антиидей А. И. Титаренко
Смысловое ядро «новой этики» включает в себя комплекс различных социокультурных явлений и моральных прак- тик, часто противоречащих друг другу. Обсуждение «новой этики», споры вокруг сексизма, культуры отмены, борьбы за права меньшинств, дискриминации по раз- личным основаниям, риторики ненависти и т. п. затрагивают проблему свободы выбора, борьбы за признание и самовыражение. Они, с одной стороны, обусловлены представлениями о равенстве и справедливости, с другой – требованием предоставить больше прав и свобод тем, кто когда-то был объектом дискриминации. «Новая этика», что уже отражено в названии, строится на противопоставлении и столкновении, стремлении отказаться от традиционных запретов и предписаний, заставить несогласных признать их несостоятельность, взять на себя ответственность за действия и оценки прошлого, исправлять допущенные ошибки. В этом смысле «новая этика» мало чем отличается от «старой». Ее сторонники, говоря о необходимости новых моральных норм, критикуют не нормы, а практики, традиции, поведенческие особенности. Так, например, требование быть политкорректным маркирует особенности коммуникативных практик, которые отражают хамство, наглость, циничность. Является ли политкорректность в свою очередь чем-то новым и моральным, если сегодня ее сторонники проявляют крайнюю нетерпимость к несогласным? Что происходит с политкорректностью, когда понятие «еврейский погром» становится не историческим фактом, а реальностью в европейской жизни?1
Поскольку обсуждение большинства проблем «новой этики» происходит в медиапространстве и масштабируется благодаря цифровым технологиям, они неизбежно привлекают к себе внимание, отражают не только нравственные, но и социально-политические деструкции современного цифрового общества. По мнению исследователей, на политическом уровне «новоэтическая» проблематика граничит с навязыванием идеологических установок, установлени- ем тотального контроля за соблюдением правил, диктуемых сообществом политических акторов [10, с. 173]. Она в качестве одного из инструментов формирует неото-талитарные глобальные системы [6], которые характеризуются массовыми манипуляциями, изменением системы ценностей и мировоззрения [13, с. 7]. Причем этот контроль на уровне социума осуществляют не элиты, а «непрофессионалы», чьи возможности расширены благодаря цифровым технологиям [1, с. 68]. На социальном уровне «новая этика» – это новая циничная теория, которая «упрощенчески разделяет мир на господствующие и маргинализирующие идентичности…» [11, с. 13], новый тоталитаризм [4], усиленный коллективной виной, и обязательным стремлением ее загладить, хотя бы формально.
Материалы и методы
Исследование «новой этики» предполагает междисциплинарный подход, методологической основой которого может служить концепция антиидей А. И. Титаренко [20], а также концепции индивидуализации этики через отказ от коллективного Э. Ной-манна [9] и социальной интеракции Т. Лук-мана [5].
Поскольку мораль представляет собой результат развития человеческого общества, ее универсальность и партикулярность отражаются в индивидуальных поступках и социальном взаимодействии. Как отмечает А. П. Скрипник, мораль «развивается в диалоге как особой форме вербальной коммуникации. Кооперация и социальная структура образуют ее фундамент» [18].
Следовательно, изучать изменения, происходящие в морали, можно при условии погружения в коммуникативные практики, которые позволяют отслеживать основные противоречия, возникающие при столкно- вении идей и антиидей, противоречивых ценностных установок.
Идеи «новой этики», претендующей сегодня на выработку новых моральных установок, опираются на концепты прав человека в их максимально широкой трактовке, социального равенства, борьбы за признание, индивидуализм. Пропагандируя принципы гуманизма и толерантности, самоценности каждого человека, «новая этика» в то же время является отражением нарастающего конфликта между значительностью незначительного человека и социальной справедливостью, индивидуальными или групповыми травмами и коллективной ответственностью.
Апологеты и критики «новой этики» отмечают, что сложно определить ее смысловое ядро. Так, в контексте проблем этнической и гендерной дискриминации, борьбы за права меньшинств, культуры отмены как социального и политического явления понятия «хорошее» и «плохое», «терпимое» и «нетерпимое», «индивидуальное» и «коллективное» становятся синонимичными и утрачивают изначальные смыслы.
Работа А. И. Титаренко «Антиидеи. Опыт социально-этического анализа», вышедшая в 1976 г., содержит «критику «буржуазного» общества» в той его части, которая касается радикальных изменений в обществе, сопровождающихся моральным нигилизмом и «антигуманным активизмом». По мнению исследователя, «питательной почвой» для возникновения антиидей служат нравственный скептицизм, пессимистические и нигилистические умонастроения [20, с. 13]. Вынося за скобки идеологическую составляющую этой книги, рассмотрим концептуальные основоположения, которые А. И. Титаренко высказывает относительно формирования норм морали. В контексте марксистских идей он отмечает, что поиском новой системы нравственных ценностей характеризу- ются «переходные исторические периоды», когда «ценностное восприятие, ощущение времени резко обостряется» и «человек ощущает течение своей личной жизни в водоворотах социального течения времени, властно требующего от него сознательного самоопределения на шкале окружающих его ценностей» [20, с. 420].
Нигилизм и активизм современного цифрового общества трансформировал многие идеи в антиидеи, оправдывая аморальные поступки, соблазняя человека «аморальным своеволием». Антиидеи являются маркером изменений, несостоятельностью моральной нормы и принципа, а потому подвергают их сомнению, обесценивают. В то же время антиидеи привлекательны: они формируют особую моральную оптику при взгляде на проблемы и коллизии современной жизни, с одной стороны, и обеспечивают раскрепощенность в поведении каждого человека – с другой, оправдывают манипулирование одних людей другими, подавление большинства меньшинством.
Антиидеи позволяют посмотреть на «новую этику» и общественный резонанс по ее поводу как своеобразную игру, в которой действуют не герои, а антигерои, и стремление отстоять права, избежать насилия и дискриминации оборачивается на практике новыми формами подавления и обратной дискриминацией. Причинами этого, по мнению А. И. Титаренко, могут быть «интенсификация межличностного общения», которая опасна «нравственно-эмоциональной разобщенностью», утратой качества и глубины эмоциональной связи с другими людьми, «морального резонанса с ними»; «кризис самовыражения», который порождает стереотипизацию, жесткую рутину стандартного поведения и восприятия; рост «функционально-ролевых, формально-деловых «моделей» поведения и завышенные моральные ожидания со стороны общества [20, c. 42–44].
Не вызывает сомнения, что «новая этика» предъявляет к человеку и современному обществу завышенные моральные ожидания, диктует необходимость признать ошибки прошлого, отказаться от тех традиционных установок, которые способствуют разобщенности и сегрегации в обществе. В этом, по словам А. И. Титаренко, выражается «эгоистическое своеволие», которое отвергает традиционную мораль, считая, что она исключает свободу человека, который маргинализируется, нащупывая новое общество и новые нормы. Он задается вопросом: «…где гарантия того, что “свободные переливы желаний” не выкристаллизуются в угнетение, подавление человека человеком? Что “новая этика”, построенная на “игре жизни”, не будет оправдывать своевольного манипулирования одних людей другими?» [20, с. 295].
Даже если в периоды перемен некоторые нормы утрачивают значимость, у человека все равно возникает потребность опираться на нормативные регуляторы, делая их источником поступков. Что может быть противопоставлено «свободным переливам желаний»? Вероятнее всего, самоконтроль со стороны человека, который позволит ему совершать поступки, обусловленные не мнением большинства, не эмоциями и потребностями, а собственным моральным выбором, согласованным с нравственными нормами.
По мнению Т. Лукмана, это согласование возможно, если подходить к анализу социальной реальности с позиций социальной интеракции коллективного и индивидуального, возникающих в процессе коммуникативного взаимодействия [5, с. 16]. «Новая этика» тем самым представляется пограничным явлением между коллективными нормативными установками и их индивидуальной интерпретацией, во многом зависящей от времени и обстоятельств.
Изучение «новой этики» принято начинать с глубинной психологии Э. Нойманна, для которого «новым» было стремление к индивидуализации людей, направленной на преодоление коллективного сознания. «Новая этика» представляет собой превращенную форму индивидуального и коллективного: «при отождествлении личностного эго с трансперсональным в форме коллективных ценностей ограниченный индивид теряет связь со своими ограниченными возможностями и таким образом становится бесчеловечным» [9, с. 130].
«Новая этика» в ее современном преломлении строится на противопоставлении и столкновении старого и нового, традиционного и инновационного, обезличивания и борьбы за признание. Она выступает в роли нормативного трикстера, побуждающего человека при всех его высоких идеалах проявлять «совокупность всех низших черт характера в людях» [22, с. 354]. Э. Ной-манн полагал, что современному человеку в поиске моральных ценностей свойственна коллективная дезориентация, которая имеет двойственный характер и является попыткой разрешить конфликты современного человека: с одной стороны, «девальвации индивида», с другой – «завышенную оценку его индивида и эго». Признание фальшивости системы ценностей, которая существовала и существует, но не делает человека счастливым, формирует систему компромиссных «псевдоценностей» [9].
Псевдоценности дискредитируют основополагающие нравственные принципы, не признают моральной автономии личности, но стимулируют «необузданное моральное своеволие» [19, с. 259], которое ведет к росту «фанатичных моральных аномалий» [19, с. 298].
Претензия «новой этики» на «новизну» является свидетельством того, что в обществе есть потребность в пересмотре моральных норм и ценностей [16], новых способах «борьбы за признание» индивидуальности, инаковости, своеобразной нравственной медиации между личной позицией, поступком и нравственной обоснованностью требований и действий других людей.
Результаты исследования
«Новая этика» строится на релятивизме, размывании границ добра и зла, поскольку, критикуя традиции, ничего не предлагает взамен, кроме ценности уникального Я, предполагающего, но не учитывающего мнения уникального Другого. Декларируя гибкость, признание равнозначности разных позиций и ценностей, «новая этика» в информационном пространстве выражается в придирчивости, наставительности, назидательности, догматизме и в то же время в «упрощении» [17]. Внимание к деталям, тонкости словесной игры, грамматических конструкций («исследовательница», а не «исследователь», «авторка», а не «автор») и идеологических построений (признание коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой войны, героями2; поведение акций в Европе в поддержку ХАМАС3; шестиконечные звезды на домах евреев в Париже, пожары на еврейских кладбищах4) приводят к ситуации, когда любое высказывание становится двусмысленным, спорным. Возможно ли это расценивать как выражение возмущения против сильного, который третирует слабого, против того, правота которого была безупречна, а теперь вызывает сомнения? Вынужденно принимая одну из сторон в социальной и политической коллизии, мы примеряем конформистскую модель моральной регуляции, по мнению А. П. Скрипника, противоположную индивидуалисткой позиции, «которая абсолютизирует самостоятельность субъекта в ущерб его сопричастности, связи с социальным целым» [19, с. 301].
Необходимо отметить, что в «новой этике» индивидуализм и конформизм неоднородны и противоречивы. Те, кто решают «отменить» кого-то из-за несогласия с «хайповой» повесткой (права меньшинств, харассмент и др.), демонстрируют, что индивидуализм и конформизм одинаково поверхностны; они предполагают либо «извращенную чувственность», либо «извращенную рациональность». И то и другое - крайности, фиксирующие, но не рефлексирующие происходящие изменения.
«Новая этика», несмотря на гуманистические устремления, отражает активную позицию той части современного общества, которая отстаивает интересы различных меньшинств. Инструменты, которые используются при этом (культура отмены, хейт, риторика ненависти), навязывают коллективную вину, формируют чувство стыда у тех, кто, по их мнению, должен нести ответственность за дискриминационные поступки предков. Она актуализирует чувство стыда, но в то же время стимулирует бесстыдство в той части, когда ранее запретное, интимное становится публичным, намеренно демонстративным, вызывающим. В этом возможно усмотреть как положительные, так и отрицательные моменты. Вина и стыд позволяют человеку и обществу проходить важные этапы развития, вырабатывать знания, которые впоследствии служат основой для нормативных решений, выполняют регуляторную функцию в поведении. «Чувство вины может лежать в основе многих разделов ответственности, таких как личностной и социальной. Она играет очень важную роль в социализации человека для того, чтобы усвоить социальные нормы и правила, для плодотворного взаимодействия с обществом» [15, с. 97].
Однако социальная продуктивность вины и стыда возникает только тогда, когда они помогают прочувствовать чужое положение, как если бы встать на место Другого, ценности и ценность которого поставлены под сомнение. Такая вина и стыд формируют чувство ответственности не только за себя, но и за тех, кто не извлек подобного урока или создал ситуацию. Именно такое чувство, по мнению исследователей, является констатацией зрелости и осознанности: «Чувство ответственности, связанное с виной, способствует личностной зрелости и психологической состоятельности. В целом, чувство вины – это самостоятельное явление, возникающее в результате неудовлетворенности человека собой и окружающим миром, и призвано выполнять регулятивную функцию в управлении поведением человека» [15, с. 98].
Регулятивная функция здесь обусловлена личностным понимаем вины, а не навязыванием ее извне, кем-то другим, кто, возможно, даже не пострадал от этого. В первом случае вина - внутренний моральный регулятор, во втором – инструмент манипулирования, подавления, сегрегации.
Стыд важен для развития личности, он, по мнению исследователей, позволяет формировать устойчивые представления о себе, осуществлять идентификацию с нормативным в поведении и оценивании [8, с. 23].
Для сторонников «новой этики» стыд не является значимым; напротив, они не испытывают ни смущения, ни робости, ни стеснения. Но негодуют, выражают досаду по поводу того, что им когда-то внушали чувство стыда, подавляли их стремления, желания, и теперь эту «санкционную» вину [3, с. 195] вменяют всем остальным. «Все это выступает проявлениями санкционной вины - дезадаптивной формы вины, подразумевающей наказание за какой-либо проступок субъекта, смысл которого заключается в причинении ему (субъекту) ответного ущерба. Неизбежность наказания, следующего за проступком, определяется установкой: “Виноватый обязательно должен быть наказан!”» [3, с. 196].
Перефразируя высказывание Ю. В. Гор-батовской, можно обозначить лозунг апологетов «новой этики» следующим образом: «Виноватый в моей вине должен быть наказан!». На этом основании возникает такое явление, как культура отмены, когда тех, кто не признает проблему, обсуждаемую в обществе, или не готов сочувствовать тем, кто пострадал, «отменяют» (вспомним ситуацию с Региной Тодоренко5), исключают из сообщества.
Исследователь С. В. Чугров отмечает, что культура отмены - это явление «эпохи морального беспокойства», которое во многом стимулировано «доминированием веб-сетей», и сегодня обрела «концентрированный, почти тоталитарный характер». Культура отмены касается не только и не столько «отмены» людей, но и «отмены» целых государств, а также чревата обратной агрессивной реакцией со стороны «от- меняемых»6. Здесь новая этика должна, по мнению С. В. Чугрова, «вернуться к нормальным формам общения, когда было бы невозможно представить себе «исключение» из него целой страны» [21, с. 96].
Санкции «новой этики» прежде всего касаются тех, кто своим поведением, высказываниями не подпадает под действие закона [7, с. 150]. Однако постепенно начинает работать на опережение, защищать возможных жертв от их гипотетических обидчиков. Так «белый европейского типа мужчина» заведомо опаснее, чем все остальные. Культура отмены как моральный феномен приобретает нормативную окраску еще и в правовом поле, поскольку «отмена» человека, помимо моральных страданий, может привести к репутационным и материальным потерям [12, с. 275].
У культуры отмены есть «отраслевая локализация» [2, с. 164] в шоу-бизнесе [14, с. 152], медиа, политике. Это механизм социального контроля, который строится на разрушении репутаций, информационном воздействии на тех, кто имел смелость высказаться против или иначе7. В основе «отмены», при первом приближении, лежит возмущение насилием, дискриминацией, отстаивание права быть «иным». При более детальном рассмотрении «отмена» проис- ходит путем вычеркивания из публичного дискурса тех, кто имеет собственное мнение.
Обсуждение и заключение
Противоречивость «новой этики» в ее спорных и неоднозначных проявлениях характеризует современное цифровое общество, в котором желание заявить о себе, стать известным, позиционировать себя как прогрессивного человека, эксперта в какой-либо области оборачивается крайней категоричностью оценок и суждений, маргинализацией социального взаимодействия. Сегодня изменяются моральные нормы, открываются новые возможности для исследования сложных тем, которые ранее маркировались как запретные, недопустимые, предполагали негативную оценку, но тем не менее определяли сильные и слабые стороны человека, культуры и общества.
«Новая этика» является закономерным этапом развития морали, демонстрирующим проблемы современного общества и отражающим все сложности, которые неизбежно возникают, когда на смену одной идеологической установке – мнению большинства – приходит другая – стремление индивидуализировать норму и ее реализацию в поступках.
Список литературы «Новая этика» в контексте концепции антиидей А. И. Титаренко
- Барков С. А. Неопределенность или тоталитаризм – сложный выбор человечества // Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. 2021. Т. 27, № 4. С. 49–77. DOI: 10.24290/1029-3736-2021-27-4-49-77.
- Былевский П. Г., Цацкина Е. П. Феноменологический анализ явления «культура отмены» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2022. Вып. 2. С. 162–169. DOI: 10.52070/2542-2197_2022_2_857_162.
- Горбатовская Ю. В. Модель развития нравственного сознания личности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2023. Т. 23, вып. 2. С. 192–197. DOI: 10.18500/1819-7671-2023-23- 2-192-197.
- Коцюбинский Д. А. «Новый тоталитаризм» XXI века. Уйдет ли мода на безопасность и запреты, вернется ли мода на свободу и право? СПб.: Страта, 2022. 276 с.
- Лукман Т. Коммуникативное конструирование реальности и секвенциальный анализ. Личная реминисценция / пер. с англ. В. В. Семеновой // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2020. Т. 12, № 1. С. 9–18. DOI: 10.19181/inter.2020.21.1.
- Маляревич Д. В., Агафонова Е. В. Теория деколониализма в дискурсе «новой этики» // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 490. С. 89–96. DOI: 10.17223/15617793/490/10.
- Мухлынкина Ю. В., Иванов А. И. Культура отмены: истоки, проявления, влияние на общество // Позиция. Философские проблемы науки и техники. 2022. № 18. С. 148–161.
- Наумчук Н. С. Общие категории стыда: онтогенез, ранние отношения, последствия // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2023. Т. 11, № 1. С. 21–34. DOI: 10.23888/humJ202311121-34.
- Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. Человек мистический. СПб.: Академ. проект, 1999. 206 с.
- Оганисьян Ю. С. Феномен тоталитаризма: выход в ХХI век // Полис. Политические исследования. 2020. № 2. С. 167–177. DOI: 10.17976/jpps/2020.02.12.
- Плакроуз Х., Линдси Д. Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере идентичности и что в этом плохого. М.: Individuum, 2022. 384 с.
- Подрабинок Е. М. «Культура отмены» и достоинство личности // Пермский юридический альманах. 2023. № 6. С. 271–282.
- Пугачев В. П. Глобалистский тоталитаризм – тренд развития цифрового общества // Свободная мысль. 2021. № 4. С. 5–19.
- Ребрина Л. Н. Хейт-шоу: реализация хейта как коммуникативного феномена // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2: Языкознание. 2022. Т. 21, № 1. С. 151–163. DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.1.13.
- Рюмина Т. В., Зудова О. С., Лопатина В. Ю. Чувство вины в аспекте проблематики развития личности // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 94-2. С. 96–101. DOI: 10.18411/trnio-02-2023-84.
- Савин Н. Общество в смятении // Социодиггер. 2023. Т. 4, вып. 9. URL: https://sociodigger.ru/articles/articles-page/obshchestvo-v-smjatenii (дата обращения: 12.10.2023).
- Секацкий А. К. Вторичное упрощение как способ обретения первоначала // ΕΙΝΑΙ: Философия. Религия. Культура. 2021. Т. 10, № 2. С. 213–228.
- Скрипник А. П. Круглый стол «Мораль: многообразие понятий и смыслов». URL: https://iphras.ru/uplfile/ethics/seminar/27_11_2012/KS_Content.pdf (дата обращения: 04.05.2023).
- Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры. М.: Политиздат, 1992. 351 с.
- Титаренко А. И. Антиидеи. Опыт социально-этического анализа. М.: Политиздат, 1984. 478 с.
- Чугров С. В. Культура отмены в мировой политике: историко-философские корни // Полис. Политические исследования. 2022. № 5. С. 88–98. DOI: 10.17976/jpps/2022.05.07.
- Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев: Гос. библиотека Украины для юношества, 1996. 384 с.