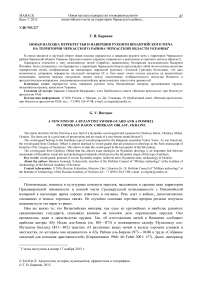Новая находка перекрестья и навершия рукояти византийского меча на территории Черкасского района Черкасской области Украины
Автор: Баранов Г.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье вводится в научный оборот новая находка перекрестья и навершия рукояти меча с территории Черкасского района Черкасской области Украины. Предметы имеют хорошую сохранность и выполнены из цветного металла (бронзы?). Перекрестье относится к типу византийских мечей «Гарабон», выявленному болгарским исследователем Валерием Йотовым. Было установлено, что перекрестье с территории Черкасской области представляет собой почти полную аналогию перекрестиям мечей, изображенным на миниатюрах парижской рукописи «Гомилий Григория Богослова», что дает возможность датировать перекрестье последней четвертью IX в. Оно имеет почти полные аналогии на византийских миниатюрах, является важным связующим звеном между памятниками изобразительного искусства Византии и археологическим материалом, доказывающим византийское происхождение такого типа древностей.
Перекрестье меча, навершие рукояти меча, византийская империя, средневековое оружие, византийское оружие, археология украины
Короткий адрес: https://sciup.org/14118128
IDR: 14118128 | УДК: 903.227
Текст научной статьи Новая находка перекрестья и навершия рукояти византийского меча на территории Черкасского района Черкасской области Украины
Политические, военные и культурные контакты народов, населявших в средние века территории Приднепровской низменности и южной части Среднерусской возвышенности с Византийской империей в настоящее время хорошо известны и изучены. Речь идет о войнах, дипломатиеских сношениях и тесных торговых связях. Не случайно основная торговая артерия региона получила название пути «из варяг в греки».
Нам же важно то, что Византийская империя, как одно из крупнейших и наиболее развитых средневековых государств, оказывала влияние на военное дело окружающих народов. Оно проявлялось даже в производстве оружия. Так, об изготовлении мечей в Византии сообщают арабские авторы Абу Исхак аль-Кинди (ок. 801—873) в посвященном халифу Мухаммеду аль-Мутасиму Биллаху (833—842) трактате «О различных видах мечей и железе хороших клинков и местностях, по которым они называются» и Абу Райхан аль-Бируни (973—1048) в труде «Собрание сведений для познания драгоценностей» (Кирпичников 1966: 46; Fehér 2001: 157). Далее, император
Статья поступила в номер 17 ноября 2015 г.
Вып. 7. 2015
Константин VII Багрянородный (913—959) в 45 главе II книги своего трактата «О церемониях Византийского двора» при описании подготовки флота для неудачной для византийцев критской экспедиции 949 г. сообщает о выделении из императорской казны железа для изготовления 4000 мечей (Constantinus Parphirogenitus 1829: 674).
Однако при изучении археологических находок византийского вооружения возникает ряд затруднений. Дело в том, что амуниция ромейской армии, в отличие от аналогичных артефактов Древней Руси и кочевников южнорусских степей, до сих пор остается слабоизученной. Дело в том, что находки предметов вооружения, относящихся к византийскому кругу, крайне редки — их можно пересчитать по пальцам. Во многом это связано с существовавшей в Византийской империи практикой централизованных закупок оружия (Grotowski 2010: 17—33). Так же исследователи учитывают существовавший в империи обычай заимствовать вооружение у окружающих народов и военно-политических противников (Kolias 1988: 27).
Тем не менее, в настоящее время историография, в которой освещается вопрос византийских мечей, насчитывает значительное количество работ, основанных на анализе письменных или изобразительных источников (Grotowski 2010; Kolias 1988; Parani 2003). Появляется труды, основанные на анализе археологических находок предметов византийского вооружения (Aleksić 2010). Большой вклад в изучение византийских мечей внес болгарский исследователь Валерий Йотов, опубликовавший ряд работ, обобщающих известный материал и предложивший свой подход к его изучению и оригинальную типологию, выработаннаную в результате его использования (Yotov 2011a; Yotov 2011b).
Но, несмотря на это, до сих пор еще остается неразрешенными множество вопросов, связанных как с методикой выделения предметов византийской амуниции из массива оружия Евразии, так и с проблемой датирования выделенных образцов. Поэтому очень важным является ввод в научный оборот новых археологических находок.
В настоящей статье в научный оборот вводится новая находка перекрестья и навершия рукояти меча, найденные на территории Черкасского района Черкасской области Украины. Данные перекрестье и навершие рукояти, несомненно, являются уникальными находками, значимость которых для дальнейшего изучения византийского вооружения трудно переоценить1.
Описание находки
Перекрестье и навершие рукояти меча были случайно обнаружены на территории Черкасского района Черкасской области Украины в начале 2015 г. Точных обстоятельств и более точного места находки установить не удалось.
Перекрестье меча изготовлено из цветного металла (бронзы?) и смонтировано из двух половин, спаянных между собой. Композиционно перекрестье состоит из трех частей: верхняя цилиндрическая часть — втулка, служащая для крепления перекрестья к неметаллическим частям рукояти; центральная часть — упор в виде сужающегося к концам трапециевидного бруса со слегка опущенными концами; нижняя цилиндрическая часть (муфта), выполнявшая, возможно, декоративные функции или служившей для лучшей фиксации меча в ножнах. На наш взгляд, нельзя исключать возможность того, что такой конструкцией могли пытаться закрыть стык пяты клинка и хвостовика, опасаясь слома меча в этом месте от удара при фехтовании. В этом случае, муфта должна была принять на себя меч противника и погасить энергию удара. Также существует мнение, что эта деталь перекрестья связана с особым способом хвата — т.н. «итальянским хватом», когда указательный палец фехтовальщика охватывает упор и кладется на пяту клинка (ricasso) (Nicolle 1991: 305).
Перекрестье имеет хорошую сохранность. Лицевая сторона сохранилась полностью, на обратной стороне перекрестья имеются утраты в нижней цилиндрической части (рис. 1). Высота перекрестья
Вып. 7. 2015
Новая находка перекрестья и навершия рукояти византийского меча на территории Черкасского района…
113 мм, ширина в самом широком месте 106 мм, нижняя цилиндрическая часть имеет ширину 67 мм, масса перекрестья 108 г.
Втулка, незначительно расширяющаяся кверху, имеет прямоугольное сечение. По верхнему краю имеется декоративное утолщение, образующее кант-валик по всему периметру. Подобным образом оформлен и стык втулки и центральной части перекрестья.
Нижняя цилиндрическая часть («муфта») в центре имеет аркообразный вырез с окантовкой по всему периметру выреза (рис. 2). На лицевой стороне этот вырез заполнен декоративной фигурой, состоящей из основания в форме опирающихся друг на друга букв «С», развернутых зеркально, с как бы наложенной сверху колпакообразной геометрической фигурой. На взгляд автора настоящей статьи, фигура напоминает геральдическую лилию. На обратной стороне аркообразный вырез оставлен без заполнения (рис. 3). В сечении нижняя цилиндрическая часть образует овал.
Навершие рукояти меча так же смонтировано из двух одинаковых половин (рис. 4). Высота навершия 53 мм, ширина в самом широком месте 35 мм, масса 44 г. Композиционно навершие рукояти состоит из втулки с как бы надетой сверху шляпкой, напоминающей диск с подтреугольным вырезом. Сечение нижней части навершия рукояти аналогично сечению верхней части перекрестья и образует прямоугольник. Аналогично оформлению верхней части перекрестья оформлена и нижняя часть навершия, имеющая такой же валик-кант по всему периметру. В центре навершия имеется сквозное отверстие, служившее для крепления к неметаллическим частям рукояти.
Атрибуция находки и датировка
Сравнительно-типологический анализ находки позволяет отнести перекрестье из Черкасской области к предложенному Валерием Йотовым типу византийских мечей. Это так называемый «Тип Гарабон» (Yotov 2011a: 116—117), к которому исследователем были отнесены три меча. Это очень хорошо сохранившийся меч из погребения 55 могильника Гарабон-I (венг. Garabonc-І ) (Yotov 2011a: 121, pl. II: 4 ), расположенного юго-западнее озера Балатон в Венгрии, датированный второй половиной IX в., меч, происходящий с территории Харьковской области Украины (случайная находка) (Yotov 2011a: 121, pl. II: 5 )2 (рис. 5) и меч неизвестного происхождения, датированный VIII—IX вв3, и опубликованный в каталоге, посвященном вооружению исламских народов (Yotov 2011a: 121, pl. II: 6 ) (рис. 6).
Таким образом, единственным точно датированным предметом в данном типе является меч из погребения 55 могильника Гарабон-I, датированный второй половиной IX в. Автор публикации и Валерий Йотов (Yotov 2011a: 116) согласны в том, что меч имеет явное византийское происхождение.
Болгарский исследователь так же указывает на два изображения мечей на миниатюрах парижской рукописи Гомилий Григория Богослова4, которые, по его мнению, являются аналогиями
Вып. 7. 2015
археологического материала (Yotov 2011a: 117). Это мечи в руках воинов на миниатюрах «Царь Ирод избивает вифлеемских младенцев» (рис. 7: А ) (BNF. Grec 510: f.137r) и «Суд царя Соломона» (рис. 7: Б ) (BNF. Grec 510: f.215v).
По нашему мнению, перекрестья мечей на миниатюрах Гомилий представляют собой практически точные аналогии перекрестья из Черкасской области. Они имеют очень похожий аркообразный вырез в нижней цилиндрической части и помещенную внутрь арки декоративную фигуру, напоминающую «геральдическую лилию». Различие состоит только в том, что «лилии» на миниатюрах и на перекрестье из Черкасской области развернуты на 180˚ относительно друг друга. Это может быть объяснено как ошибкой художника, выполнявшего миниатюры рукописи, так и вариативностью размещения декоративной фигуры на реальных перекрестьях мечей такого типа. Стоит отметить, что остальные мечи этой группы не имеют декоративных фигур в аркообразном вырезе.
Парижская рукопись Гомилий Григория Богослова была написана для Василия I Македонянина (866—886) в придворном скриптории. Она имеет узкую датировку. Рукопись датирована по миниатюре, изображающей семью правителя: императрицу Евдокию Ингерину (ок. 840—882) и сыновей: Льва VI (866—912) и Александра (870—913). На миниатюре отсутствует старший сын императора Василия I Македонянина — Константин (869—879). С учетом этого и датирована рукопись. Так как Константин скончался 3 сентября 879 г., а супруга Василия I Македонянина, императрица Евдокия, присутствующая на миниатюре, скончалась в 882 г., то время создания рукописи ограничивается периодом между 879 и 882 гг. (Лихачева 1989: 477—479; Brubaker 1999: 5—6).
По нашему мнению, учитывая практически полную аналогию между изображениями на миниатюрах Гомилий Григория Богослова и черкасским перекрестьем, на данном этапе исследований перекрестье и навершие рукояти меча с территории Черкасского района Черкасской области нужно датировать последней четвертью IX в.
Что касается общей датировки всего типа таких перекрестий, то и тут следует обратить внимание на ряд византийских изображений. Речь идет о миниатюрах из той же рукописи Гомилий Григория Богослова. На первой — «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину» (BNF. Grec 510: f.226v) (рис. 8: А ) хорошо виден меч в руках Архангела Михаила. На второй — «Мученичество св. Киприана» (BNF. Grec 510: f.332v) (рис. 8: Б ) в руках воина заметно тоже оружие. Примечательно то, что у мечей аналогичные перекрестья, но без декоративной фигуры в арках. К сожалению, на миниатюре «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину» в районе перекрестья меча имеются утраты красочного слоя. Возможно, что на перекрестье раньше была изображена декоративная фигура, но характер сохранившегося красочного слоя, скорее всего, свидетельствует об обратном. На миниатюре «Мученичество св. Киприана» отсутствие декоративной фигуры прослеживается, на наш взгляд, однозначно.
Другим интересным источником является Ватиканский минологий5, написанный в Константинополе по заказу императора Василия II Болгаробойцы (963, 976—1025). В нем есть несколько миниатюр, на которых просматриваются перекрестья мечей подобного типа. Одна из них — «Мученичество свв. Трофима, Доримедонта и Савватия» (Vat. gr. 1613: 49) (рис. 9), написанная Михаилом Влахернитом (Ševčenko 1962: 249—251). Перекрестье меча в руке воина на ней явно относится к рассматриваемому типу, а декоративная фигура в арке муфты отсутствует. Так же вызывает интерес оформление устья ножен, которые воин держит в левой руке (рис. 9: Б ). Устье имеет П-образную отделку, напоминающую форму муфты перекрестья. Создается впечатление, что художник пытался показать, что устье ножен вставляется в муфту когда меч вложен в ножны. Но вопрос изучения ножен мечей, конечно, требует отдельного исследования.
Вопрос о дате создания Ватиканского минология остается дискуссионным. Большинством исследователей принята датировка, предложенная С. Дер-Нерсесян, которая определила время создания памятника началом царствования Василия II, между 979—989 годами (Der Nersessian 1973:
Вып. 7. 2015
Новая находка перекрестья и навершия рукояти византийского меча на территории Черкасского района…
116—125). Так же считается, что этот памятник возник в начале XI в., возможно, в 1001—1016 гг. (Виноградов, Захарова 2009: 225—229; Ševčenko 1991: 1342).
Таким образом, исходя из анализа изобразительного материала, можно предположить, что перекрестья «Типа Гарабон» имели достаточно продолжительный период бытования. На данном этапе исследования общую датировку перекрестий этого типа следует ограничить второй половиной IX и концом X — началом XI вв.
К вопросу об этнической атрибуции
Представление о связи перекрестий, имеющих принципиальную конструкцию «втулка—упор— втулка (муфта)» и происходящих с территории Восточной Европы, с византийским миром можно считать устоявшимся в науке (Yotov 2011a: 113—115).
В этой связи хотелось бы уделить внимание статье болгарского исследователя Д. Рабовянова (Rabovyanov 2011: 73—86), в которой ученый излагает иную точку зрения по вопросу этнической атрибуции таких перекрестий. В основу исследования Д. Рабовянов положил факт наличия на перекрестьях «муфты», связав эту деталь с «итальянским хватом». По мнению болгарского ученого, этот элемент был популярен в арабском мире, что дало исследователю основание полагать, что такого рода находки на территории Восточной Европы связаны не с византийским влиянием, а являются арабскими по своему происхождению.
На наш взгляд, существует ряд обстоятельств, не позволяющих принять такой вывод. Серьезные сомнения вызывает сама возможность использования для этнической атрибуции перекрестий гипотезы о связи «муфты» и «итальянского хвата», которая положена в основу исследования Д. Рабовянова.
Во-первых, «итальянский хват» был хорошо известен в Византии (рис. 10), что не отрицается и самим болгарским исследователем (Rabovyanov 2011: 77). Во-вторых, само допущение о связи «муфты» и «итальянского хвата» так и осталась гипотезой, не получившей какой-либо развернутой доказательной базы. Брать ее за основу дальнейшего исследования, на наш взгляд, преждевременно. В-третьих, ни византийский, ни арабский материал не демонстрируют какой-либо жесткой связи наличия на перекрестье муфты и «итальянского хвата». Изображения прямого хвата мечей с такими перекрестьями демонстрируют, например, и византийские миниатюры из парижской рукописи Гомилий Григория Богослова (рис. 7, 8) и Ватиканского минология (рис. 9), а также миниатюра «Созвездие Персея» из стамбульской рукописи «Книги неподвижных звезд» (Topkapi Lib. Istanbul. Ms. Ahmet III. 3493. f.30r) (рис. 11).
К слову, нельзя согласиться и с предложенной Д. Рабовяновым трактовкой изображения Голиафа на церкви Святого Креста на о. Ахтамар (оз. Ван, Турецкая Республика). Болгарский исследователь предположил, что в образе Голиафа представлен образ «коллективного врага», которым, по мнению болгарского исследователя, должны были быть арабы (Rabovyanov 2011: 82).
Однако история строительства церкви опровергает такой вывод. Церковь Святого Креста находится на территории средневекового Васпуракана и была построена в 915—921 гг. по приказу князя Гагика Арцруни (904—943). В это время для васпураканских князей главной проблемой были не взаимоотношения с арабами, а конфликт с анийскими царями из династии Багратидов. В борьбе с багратидским царем Смбатом I (890—914) Гагик Арцруни опирался на союз с эмирами Атропатены из династии Саджидов. В 908 г. по протекции эмира Юсуфа (901—928) халиф даже даровал Гагику титул «царя Армении». Союзники разгромили войска Багратидов, а сам царь Смбат I попал в плен и в 914 г. лишился головы (Акопян 1980: 124—127). Именно после победы над Багратидами Гагик начинает строительство своей роскошной резиденции на Ахтамаре. В этом контексте, если и рассматривать образ «коллективного врага», то Давид должен был символизировать Васпуракан или самого Гагика, а Голиаф — собирательный образ поверженных Багратидов.
Впрочем, меч в руке у Голиафа на барельефе церкви Святого Креста на Ахтамаре нельзя относить к рассматриваемым мечам, т.к. его перекрестье имеет совершенно другую форму. Ошибочная
Вып. 7. 2015
трактовка этого меча происходит от неверной прорисовки, размещенной в работе британского исследователя Д. Николя (Nicolle 1991: 321, fig. 30). Сравнение прорисовки с фотографией (рис. 12) наглядно показывает, что в случае с мечом Голиафа мы имеем дело с совершенно иным типом перекрестья, форма которого передана в виде ровного полукруга. На наш взгляд, перекрестье меча Голиафа идентично перекрестьям, известным по материалам Закавказья. Такое перекрестье имеют находки с территории Грузии: сабля из Вани и меч из Хевсурети (рис. 13) (Бакрадзе 2014: 277—291).
Сам факт взаимного влияния византийской и исламской цивилизаций не является чем-то новым в науке и не раз отмечался исследователями. Сами технологи производства железа и стали в Византии испытывали влияние арабской науки, о чем свидетельствуют арабские термины в византийских трактатах о металлургии (Kolias 1988: 135). Тесную взаимосвязь византийского военного дела с арабским миром и другими народами отмечали Д. Николь (Nicolle 1991: 229—301) и В. Йотов (Yotov 2011a: 113—115). О связях византийского и арабского вооружения говорят и сами византийские источники. Например, император Лев VI в XVIII главе своего полемологического трактата сообщает, что арабские воины используют вооружение по «ромейскому образцу» (Лев VI Мудрый 2012: XVIII: 115). В этой связи, невозможно отрицать возможность распространения в воинской среде Византии и исламского мира схожих образцов оружия.
Однако неоспоримым является и тот факт, что восточноевропейские находки таких перекрестий происходят или из контактной зоны Византии и народов, населявших Восточную Европу, или непосредственно с территории самой империи. В распоряжении исследователей также имеется богатый изобразительный материал византийского происхождения, свидетельствующий о распространении таких перекрестий в империи. Учитывая эти факты, нет никаких оснований приписывать восточноевропейские находки арабам.
Отдельно необходимо рассматривать вопрос происхождения такой конструкции перекрестий. На наш взгляд, для точного ответа на этот вопрос у исследователей все еще не хватает данных. Здесь возможно рассматривать, как собственно византийское, так и арабское или персидское влияния.
В этой связи, крайне интересным, на наш взгляд, является сообщение Льва VI о том, что вооружение «сарацин» отличается пышностью: «Свои перевязи, конскую упряжь и мечи они из честолюбия украшают серебром» (Лев VI Мудрый 2012: XVIII: 115). Вероятно, следует полагать, что существовавшая в Византии практика централизованных закупок и производства оружия не способствовала распространению среди стратиотов образцов вооружения с богатой отделкой. С другой стороны, по арабским источникам известно, что арабские мечи поставлялись на рынок без перекрестий (Fehér 2001: 161), что говорит о том, что перекрестья уже монтировались покупателями на основе личных предпочтений.
Возможно, что с данным феноменом мы сталкиваемся на примере перекрестья с сурой из корана с территории Египта (Nicolle 2002: 179, fig. 114) и перекрестья из каталога исламского оружия (рис. 6), обнаруженного, по всей видимости, на территории современного Ирана. Эти перекрестья происходят с исламских территорий, а в случае с египетским связь с исламским миром несомненна. Оба перекрестья имеют богатую отделку, что отличает их от близких по морфологии перекрестий с территории Восточной Европы, которые отличаются простотой форм и скорее напоминают продукцию массового производства. Можно предположить, что восточноевропейские находки — демонстрация примеров массового производства простого и функционального оружия, что связано с византийской традицией, а перекрестья из Египта и Ирана — пример индивидуальной отделки, свойственной моде исламского мира.
Заключение
Исследование византийского вооружения еще находится на стадии становления. Перед учеными все еще стоит множество вопросов, не получивших до сих пор своего разрешения.
В этой связи, находка перекрестья и навершия рукояти меча с территории Черкасской области является находкой, которую трудно переоценить. Перекрестье имеет совершенно точные аналогии в
Вып. 7. 2015
Новая находка перекрестья и навершия рукояти византийского меча на территории Черкасского района… изобразительном искусстве Византии, что позволяет однозначно связать его с византийским вооружением и предложить узкую датировку. Представляется, что черкасское перекрестье является важным фактическим материалом как для изучения мечей этого типа, так и для византийского оружиеведения в целом.
Список литературы Новая находка перекрестья и навершия рукояти византийского меча на территории Черкасского района Черкасской области Украины
- Акопян Т. А. 1980. Восстановление независимости Армении в IX-XI веках. B: Нарсисян М. Г. (ред.). История армянского народа. Ереван: Ереванский университет, 124-133.
- Бакрадзе И. 2014. Сабля и меч развитого Средневековья из коллекции Национального музея имени Симона Джанашия (г. Тбилиси) (к истории появления и распространения сабли в Грузии). Военная археология. Сборник материалов Проблемного совета «Военная археология» при Государственном Историческом музее 3, 277-291.
- Бутенко Ю. А. 2014. Дикое Поле в период раннего средневековья (середина V -середина XI вв. н.э.). Харьков: Литера Нова.
- Виноградов А. Ю., Захарова А. В. 2009. Василия II Минологий. Православная энциклопедия 7. Москва: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 225-229.
- Кирпичников А. Н. 1966. Древнерусское оружие. Выпуск первый. Мечи и сабли IX-XIII вв. Москва; Ленинград: Наука.
- Лев VI Мудрый. 2012. Тактика Льва. Leonis imperatoris tactica. B: Барабанов Н. Д. (отв. ред.). Санкт-Петербург: Алетейя.
- Лихачева В. Д. 1989. Изобразительное искусство B: Удальцова З. В., Литаврин Г. Г. (отв. ред.). Культура Византии. Вторая половина VII-XII в. Москва: Наука.
- Саенкова Е. М., Герасименко Н. В. 2008. Иконы святых воинов. Москва: Интербук-бизнес.
- Aleksić M. 2010. Some typological features of Byzantine spatha. Зборник радова Византолошког института XLVII, 121-138.
- BNF. Grec 510. URL: http://photoshare.ru/photo12153215.html (Дата обращения 17.11.2015).
- Brubaker L. 1999. Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus. Cambridge: University Press.
- Constantinus Parphirogenitus. 1829. De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo. B: Reiske I. I. (Rec.). Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Bonnae: Ed. Weber.
- Der Nersessian S. 1973. Remarks on the Date of the Menologium and the Psalter Written for Basil II. Études byzantines et arméniennes. Byzantine and Armenian Studies. Louvain: Orientaliste, 113-128.
- Fehér B. 2001. Byzantine sword art as seen by the Arabs. Acta Antiqua Hungarica 41, 157-164.
- Grotowski P. Ł. 2010. Arms and Armour of the Warrior Saints: Tradition and Innovation in Byzantine Iconography (843-1261). B: Brzezinski R. (Transl.). Leiden, Boston: Brill.
- Hoffmeyer A. B. 1966. Military Equipment in the Byzantine Manuscript of Scylitzes in Biblioteca Nacional in Madrid. Gladius 5, 1-194.
- Kolias T. G. 1988. Byzantinische Waffen: ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfangen bis zur lateinischen Eroberung. Wien: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Nicolle D. 1991. Byzantine and Islamic Arms and Armour; Evidence for Mutual Influence. Graeco-Arabica 4, 299-325.
- Nicolle D. 2002. Two Swords from the Fondation of Gibraltar. Gladius 22, 147-200.
- Parani M. G. 2003. Reconstructing the reality of images: Byzantine material culture and religious iconography (11th to 15th centuries). Boston: Brill.
- Rabovyanov D. 2011. Early Medieval Sword Guards from Bulgaria. Archaeologia Bulgarica 2, 73-86.
- Ševčenko I. 1962. Illuminators of Menologium of Basil II. Dumbarton Oaks Papers 16, 245-276.
- Ševčenko N. P. 1991. Menologion of Basil II. The Oxford dictionary of Byzantium. Vol. 2. Oxford: Oxford University Press, 1341-1342.
- Topkapi Lib. Istanbul. Ms. Ahmet III. 3493. URL: http://warfare.uphero.com/alSufi/Topkapi-A3493-1131AD.htm (Дата обращения:17.11.2015).
- Vat. gr. 1613. URL: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613 (Дата обращения 17.11.2015).
- Yotov V. 2011a. A new Byzantine type of swords (7th -11th centuries). Ниш и Византија IX. 113-124.
- Yotov V. 2011b. Byzantine Time Swords (10th -11th Centuries) in Romania. Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica 8. Suppl, 35-46.