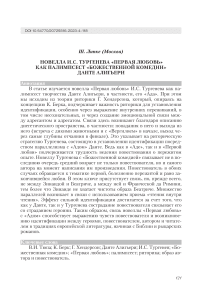Новелла И.С. Тургенева «Первая любовь» как палимпсест «Божественной комедии» Данте Алигьери
Автор: Липке Ш.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается новелла «Первая любовь» И.С. Тургенева как палимпсест творчества Данте Алигьери, в частности, его «Ада». При этом мы исходим из теории риторики Г. Хендерсона, который, опираясь на концепцию К. Берка, подчеркивает важность риторики для установления идентификации, особенно через выражение внутренних переживаний, в том числе несознательных, и через создание эмоциональной связи между адресантом и адресатом. Связи здесь возникают благодаря описанию диегетического пространства, в частности: попадания в него и выхода из него (встреча с дикими животными и с «Вергилием» в начале, выход через самые глубины отчаяния в финале). Это указывает на риторическую стратегию Тургенева, состоящую в установлении идентификации посредством параллелизма с «Адом» Данте. Ведь как в «Аде», так и в «Первой любви» подчеркивается трудность ведения повествования о пережитом опыте. Новеллу Тургенева с «Божественной комедией» связывает не в последнюю очередь средний возраст не только повествователя, но и самого автора на момент написания им произведения. Повествователь в обоих случаях обращается к тематике первой, болезненно пережитой и рано закончившейся любви. В этом ключе присутствует связь, но, прежде всего, не между Зинаидой и Беатриче, а между ней и Франческой да Римини, тем более что Зинаиде не хватает чистоты образа Беатриче. Множество параллелей возникает в связи с использованием приема «чтения внутри чтения». Эффект сильной идентификации достигается за счет того, что как у Данте, так и у Тургенева сострадание повествователя связывает его со страданием героини. Таким образом, связь новеллы «Первая любовь» с «Адом» способствует выражению чувств повествователя и возникновению идентификации между героями, повествователем, автором и читателем в традициях европейской литературы, начиная с Библии и рыцарских романов.
В.и. тюпа, к. берк, г. хендерсон, данте алигьери, и.с. тургенев, «божественная комедия», «первая любовь», палимпсест, риторика, образ автора и повествователь
Короткий адрес: https://sciup.org/149144347
IDR: 149144347 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-118
Текст научной статьи Новелла И.С. Тургенева «Первая любовь» как палимпсест «Божественной комедии» Данте Алигьери
Насколько нам известно, Р.Л. Джексон был первым, кто обратил внимание на связи между повестью И.С. Тургенева «Фауст» и творчеством Данте Алигьери, в первую очередь на роль образа Франчески из пятой песни «Ада» для Тургенева [Jackson 1983, 239–249]. В российском литературоведении также существует несколько небольших исследований, посвященных интерпретации творчества Тургенева в свете «Божественной комедии» и «Новой жизни» Данте. Это, в частности, статья Т.Б. Трофимовой, в которой изучается присутствие дантовских тем изгнания и любви в поэме «Филиппо Стродзи» и в повестях «Фауст» и «Вешние воды» [Трофимова 2004, 169–182]. И.С. Аюпов обращает внимание на связи между романом «Дым» и «Божественной комедией» [Аюпов 2009, 137–140]. И.А. Беляева подчеркивает, что любовная тематика из «Новой жизни» связывает И.А. Гончарова и И.С. Тургенева с Данте, делая их соперниками [Беляева 2018, 196; Беляева 2021, 190–205]. А.В. Вдовин изучает связи между «Поездкой в полесье» Тургенева и «Адом» Данте [Вдовин 2019, 90–100].
Мы же здесь впервые рассматриваем «Первую любовь» в аспекте палимпсеста «Божественной комедии», точнее: части «Ад». Палимпсест возникает в связи с главной риторической функцией произведения – создать идентификацию между героем, повествователем и слушателем внутри новеллы, автором, читателем и традициями мировой литературы вне ее через выражение радости и боли первой любви, связанной с соперничеством.
Палимпсест – литературное явление, впервые глубоко изученное Ж. Женеттом в 1982 г. [Genette 1982] и до сих пор активно изучаемое. Как пишет В.И. Тюпа, оно «не упрощает, а углубляет возникающие смысловые комплексы, поскольку предполагает наличие не только известной текстовой канвы (порой многослойной), но и креативной инновационности» [Тюпа 2022, 277]. Ведь палимпсест отличается от «подражаний, переложений, имитаций и пародийных деконструкций» [Тюпа 2022, 27], а также от цитат, плагиатов или других приемов тем, что он, согласно М. Прусту, связан с «памятью» [Тюпа 2022, 275], благодаря которой наш автор глубоко близок к другому, так что, говоря словами самого Ж. Женетта [Genette 1982, 452], любовь к тексту Тургенева заставляет нас любит и другой – «Ад» Данте.
Как покажет дальнейший анализ, именно с помощью Данте в «Первой любви» возникает «идентификация», в чем Г. Хендерсон видит одну из главных задач риторики [Henderson 2020, 69] – если, конечно, риторика глубже, чем только украшение своего сообщения некоторыми речевыми приемами. Продолжая концепцию К. Берка, Хендерсон считает, что идентификация выражается в «вербальных актах» («verbal acts»), рассматриваемых как «символическое действие» («symbolic action») [Henderson 2020, 63] и содержащих в себе три аспекта, которые Берк называет «dream, prayer, and chart» («сон, молитва и изображение»), то есть символическое выражение внутренних переживаний, в том числе несознательных; эмоциональную связь между адресантом и адресатом; и, наконец, деление определенной информацией [Henderson 2020, 64–67]. Как нам кажется, если такая коммуникация между автором и другим автором и, следовательно, между автором, героями, повествователем, слушателями внутри произведения и читателем получается, является успешной, именно тогда благодаря палимпсесту и возникает идентификация.
Первые связи между «Первой любовью» и «Адом», о которых следует упомянуть, – параллели в аспекте диегетического пространства. Как
«Божественная комедия» начинается ночью в лесу [Dante 1898, Inferno, I, 27, 2], так «Первая любовь» – вечером в саду [Тургенев 1981, 307]. Как Данте сталкивается там с хищными животными, а затем – с проводником, Вергилием, благодаря чему и начинаются все события [Dante 1898, Inferno, I, 28, 31–63], так, главный герой Тургенева, Владимир, идет в парк ради охоты на ворон и внезапно видит там Зинаиду, окруженную поклонниками, из которых один, доктор Лушин, выступает в качестве «Вергилия» и своим замечанием способствует тому, что Зинаида обращает на Владимира внимание [Тургенев 1981, 307–308].
Таким же образом и финал связывает тургеневскую новеллу с «Адом» Данте. Перед Данте стоит почти не решаемая задача рассказать, каким образом повествователь и его проводник, попав в самую глубину адского колодца с остывшим донельзя злом, могут оттуда выйти. Тогда вопреки ожидаемому появляется динамика. Оказывается, холод связан с тем, что Сатана, застывший во льду в этой глубине, яро машет крыльями. Героев, держащихся за эти крылья, выбрасывает на путь, по которому они могут выйти и «снова увидеть звезды» [Dante 1898, Inferno, XXXIV, 162, 121– 139] (в настоящей статье перевод «Божественной комедии» собственный, с оглядкой на перевод М. Лозинского).
Подобным образом тургеневский повествователь чувствует, что в конце «Первой любви» оказался в тупике отчаяния, в атмосфере, в которой царит смерть, и что на этой ноте не может закончить. Поэтому он будто призывает себя к порядку: «Но я напрасно клевещу на себя» [Тургенев 1981, 363]. Затем он добавляет историю о смерти старушки, которая в жизни Тургенева на самом деле была, но, конечно, к истории Владимира, его отца и Зинаиды не имеет отношения [Алексеев 1981, 487]. Как Данте и Вергилий доходят до самых глубин царства зла и только благодаря этому выходят из ада, так здесь Владимир доходит до глубин смерти и ужаса, так как он замечает, как сильно боится старушка, и ему становится «страшно за Зинаиду», так что «захотелось [ему] помолиться за нее, за отца – и за себя» [Тургенев 1981, 364]. Соответственно, только пережив ужас смерти, он выходит и вступает на путь очищения через молитву.
Связь возникает также касательно возраста женщин, ставших героинями Данте и Тургенева. Раннее замужество и смерть связывают «первую любовь» Владимира Петровича, Зинаиду, с Беатриче. Ее образ из «Новой жизни» у Тургенева явно представлен в романе «Дворянское гнездо» [Беляева 2021, 200–201]. В «Божественной комедии» же она играет ключевую роль, так как перед входом в рай Вергилий, будучи язычником, вынужден покинуть Данте, а Беатриче становится его новой спутницей [Dante 1898, Purgatorio, XXX, 282, 49–75].
Однако Зинаида не соответствует возвышенному образу Беатриче. Она создает вокруг себя «шум и гам» [Тургенев 1981, 320], думает о страстной любви между Антонием и Клеопатрой, попавшей, согласно Данте, в ад за блуд [Тургенев 1981, 334; Dante 1898, Inferno, V, 41, 63], причиняет Владимиру физическую боль [Тургенев 1981, 335–336] и вступает в сексуальную связь с его отцом, женатым человеком [Тургенев 1981, 350–351, 362].
Соответственно, при описании Зинаиды возникает скорее образ Франчески да Римини, игравшей важную роль уже в «Фаусте» Тургенева [Беляева 2021, 199]. В «Божественной комедии» именно Франческа относится к первым собеседникам Данте. Из всех благородных, но осужденных за блудные связи душ только она разговаривает с ним [Dante 1898, Inferno, V, 45, 73].
Она подчеркивает нежность любви, с которой связан «gentil ratto» (примерно: «сладкое похищение») [Dante 1898, Inferno, V, 45, 100]. Также Франческа говорит:
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona.
(Любовь, не прощающая любви ни одному любовнику, взяла меня от этого столь мощного удовольствия, что, как видишь, до сих пор меня не покидает) [Dante 1898, Inferno, V, 46, 103–105].
Помимо того, Владимир говорит: «Во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского…» [Тургенев 1981, 306]. При первой встрече с Зинаидой в ее «движениях» он замечает «что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что [он] чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия» [Тургенев 1981, 307]. Он также говорит, что у него тогда была «тающая радость первых умилений любви» [Тургенев 1981, 323].
В то же время Франческа рассказывает, что, имея выбор между любовью к супругу, Джанчотто, и к зятю, Паоло, она выбрала страстную связь с последним [Dante 1898, Inferno, V, 45, 100 – 46, 108].
Таким же образом и Зинаида оказывается в ситуации соперничества между двумя мужчинами (по крайней мере, так это воспринимает Владимир): женатым отцом, привлекательным своей красотой и мужской силой воли [Тургенев 1981, 324], и сыном, который свободен, но Зинаиде кажется еще ребенком [Тургенев 1981, 312; Маркович 1975, 88–91; Боева 2019, 83].
На ситуацию соперничества между близкими родственниками у Данте указывает то, что мужа Франчески, Джанчотто, ждет участь Каина, убившего брата из зависти [Dante 1898, Inferno, V, 46, 106; см. Быт. 4: 1–8]. Владимир также мог бы стать убийцей отца, так как поджидал любовника Зинаиды с ножом [Тургенев 1981, 350–351].
Однако здесь мы видим различия между пятой песнью «Ада» и «Первой любовью»: у Данте речь идет о соперничестве между двумя братьями почти одинакового возраста. У Тургенева же это соперничество между мальчиком, который моложе молодой женщины, и его отцом. То, что он мальчик, сказывается также, когда Владимир, «ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника», опускает нож, потому что видит, что его соперник – отец [Тургенев 1981, 351]. В этом смысле у Тургенева внешне все менее трагично, нежели у Данте. Таким образом, сюжет первой любви и соперничества между близкими родственниками связывает Зинаиду с Беатриче, а также Владимира Петровича с Данте-повествователем и благодаря этому создает идентификацию, но не полную.
Зато полная идентификация между Зинаидой и Франческой, а также между Владимиром Петровичем и Данте в ключе «эмоциональной вовлеченности» возникает в связи со страданиями героини и состраданием повествователя. Одновременному убийству Франчески и ее любовника [Dante 1898, Inferno, V, 46, 106] соответствует то, что отец и Зинаида оба умирают молодыми, с разницей всего в четыре года [Тургенев 1981, 361– 362], и что смерть отца связана с письмом от Зинаиды или о ней, «которое его чрезвычайно взволновало» [Тургенев 1981, 361].
Данте упоминает муки Франчески и Паоло в аду [Dante 1898, Inferno, V, 45, 60]. Он также подчеркивает свое сочувствие к ним, из-за которого даже теряет сознание [Dante 1898, Inferno, V, 45, 80; 46, 139–142]. Франческа ценит это сострадание и называет собеседника «animal grazioso e benigno» («существо благодатное и доброе») [Dante 1898, Inferno, V, 45, 88]. Все это находит отклик в «Первой любви»: Владимиру Петровичу «захотелось <_> помолиться» о Зинаиде и об отце, что означает, что он испытывает к ним сочувствие [Тургенев 1981, 364]. Владимир Петрович также рассказывает, что в момент прощания Зинаида высказывает свое предположение, что он осуждает ее. Он же отвечает ей, что будет «любить и обожать [ее] до конца дней [своих]». На это Зинаида реагирует, обнимая и целуя его голову [Тургенев 1981, 356]. Здесь можно увидеть связь между Зинаидой и Франческой в страдании, а между Владимиром Петровичем и Данте – в сострадании.
Стоит также обратить внимание на роль чтения внутри чтения, как у Данте, так и у Тургенева: возникновение любви у Данте связано с тем, что Франческа и Паоло читают роман о Ланселоте [Dante 1898, Inferno, V, 46, 136–139]. У Тургенева же Владимир осознает, что Зинаида «полюбила», когда сначала он читает ей стихотворение А.С. Пушкина «На холмах Грузии», а затем поэт Майданов читает свою поэму «Убийца», в частности стихи:
Иль, может быть, соперник тайный
Тебя нежданно покорил? [Тургенев 1981, 329–330].
Эффект «чтения внутри чтения» еще усиливается с помощью обрамляющего действия. Ведь Владимир Петрович испрашивает у своих товарищей разрешение записать свой рассказ и зачесть им его через неделю, так что и они читают вместе историю о любви [Тургенев 1981, 304].
Благодаря этому, как правильно отмечает Р.Л. Джексон касательно «Фауста», Тургенев вписывается в традицию мировой литературы, согласно которой чтение любовной литературы и возникновение любовной страсти в самом читателе тесно взаимосвязаны [Jackson 1983, 248]. Однако в «Первой любви», в отличие от «Фауста», любовная литература не возбуждает страсть, а только служит ее осознанию. Тем самым менее резкому темпу истории о соперничестве соответствует и менее острое эмоциональное воздействие литературы. Также слова повествователя о том, что «дело происходило в самом разгаре романтизма» [Тургенев 1981, 321] и что Майданов «выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы» [Тургенев 1981, 330], указывают на отстраненный, теоретизирующий подход к литературе.
Тем не менее «чтение внутри чтения» способствует возникновению множества идентификаций: молодой Владимир, который читает и слушает вместе с Зинаидой, связан, с одной стороны, с Данте, который внутри произведения упоминает прочтение другого произведения, а через него – со всеми, кто читает рыцарские романы. С другой стороны, повествование о прочтении текста связывает Владимира Петровича, взрослого повествователя, с его слушателями, которым он читает написанное произведение, а также Тургенева с читателем, который, как и читатель пятой главы «Ада» Данте, читает повествование о людях, которые сами читают рассказ.
Палимпсест в новелле Тургенева возникает на фоне сложной задачи, которую повествователь хочет решить не поверхностно, но глубоко и основательно: договоренностью с товарищами он «обязан» рассказать о своей первой любви [Тургенев 1981, 303]. Он хочет это сделать уместным тоном и благодаря этому создать «идентификацию» между адресантом и адресатом [Henderson 2020, 69].
Однако эта задача оказывается непростой, так как подчеркивается разница между биографией Владимира Петровича и его слушателей: Сергей Николаевич влюбился «в первый и последний раз» в шесть лет в свою няню, затем он много раз ухаживал за женщинами, что, однако, по его мнению, любовью не являлось [Тургенев 1981, 303]. Хозяин же «ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, [своей] теперешней женой, – и все у [них] шло как по маслу» [Тургенев 1981, 303]. На этом фоне сложно установить идентификацию между ними и Владимиром Петровичем. В том числе и с этим связана проблема уместного тона. В этом ключе, кстати, мы согласны с высказыванием Ф.Х. Исраповой, что хозяин и Сергей Николаевич не относятся к сфере событийности, так как они не знают пересечения границ [Исрапова 2016, 230–231], между тем, как связь с «Адом» касательно диегетического пространства показывает, что утверждение того же о Владимире Петровиче [Исрапова 2016, 228] как раз неверно.
Наоборот, сложность задачи рассказать о «первой любви» связана с тем, что отмечает Г. Хендерсон: «Where there is eloquence, there is emotional investment» [Henderson 2020, 66]. На самом деле в «Первой любви» эмоциональная вовлеченность есть у повествователя, но ее нет у слушателей. Поэтому ее связь с элоквенцией играет ключевую роль. Ведь в начале Владимир Петрович подчеркивает, что он «не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или фальшиво и пространно» [Тургенев 1981, 304]. На самом деле, как подчеркивает Л.Я. Гинзбург, на протяжении всего своего творчества Тургенев ищет способы верно воссоздать душевные переживания [Гинзбург 1999, 61].
Здесь, кстати, поиск уместного тона тесно связан с жанровой принадлежностью произведения. Ведь, по крайней мере, ожидания слушателей внутри произведения как нельзя лучше характеризует то, что пишет В.И. Тюпа, а именно, что автор носит «маску фамильярности» [Тюпа 2001, 161], то есть он должен им раскрыть глубинные и, быть может, не очень приличные тайны героя, который становится интересным именно тем, что биографически совпадает с Владимиром Петровичем. Помимо того, «Первая любовь» является типичным примером «нарушения “табу”, дозволенного посрамления, словесного кощунства и вседозволенности», которые Тюпа, вместе с М.М. Бахтиным, связывает с жанром новеллы [Тюпа 2001, 161]. Это дополнительно осложняет задачу повествователя: как ему не стать ни пошлым, ни пафосным, ни сухим?
Проблема поиска уместного тона для повествования о первой любви также связывает тургеневскую новеллу с «Адом» Данте, который уже почти в начале вступления говорит: «Io non so ben ridir com’i’ v’intrai» («Я не умею хорошо пересказать, как я туда [в лес] вошел») [Dante 1898, Inferno, I, 27, 10].
Также в финале «Ада», при описании Сатаны, Данте говорит:
Com’io divenni allor gelato e fioco, nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo, però ch’ogne parlar sarebbe poco (Каким тогда я стал замороженным и слабым, не спрашивай, читатель, а то я не напишу, ибо сказать любое было бы мало) [Dante 1898, Inferno, XXXIV, 159, 22–24].
Таким образом, повествователь «Первой любви» связан с Данте трудностью рассказать о волнующих его событиях. Но в то же время именно эта связь помогает создать идентификацию.
Это можно также сказать о связи, возникающей благодаря символике «среднего возраста». «Божественная комедия» начинается со слов: «В середине пути нашей жизни» [Dante 1898, Inferno, I, 27, 1]. Именно в этом возрасте Данте-повествователь спускается в ад. Можно провести параллель с царем Езекией, который после тяжкой болезни и чудесного выздоровления поет: «Я сказал: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней» (Ис. 38: 10), и даже с Иисусом, который, как принято считать, нисходит в ад примерно в возрасте 33–35 лет. Это также возраст Владимира Петровича, которому Тургенев придает автобиографические черты [Алексеев 1981, 479–48], и который, как и сам автор, из «не <…> старых, но и не молодых холостяков» [Тургенев 1981, 303], «человек лет сорока, черноволосый, с проседью» [Тургенев 1981, 304]. Помимо того, в новелле подчеркивается, что примерно в этом возрасте умирает отец Владимира Петровича: «он умер сорока двух лет» [Тургенев 1981, 324]. Герои также обращают внимание на то, что Антоний, любовник Клеопатры, был примерно того же возраста [Тургенев 1981, 335]. Таким образом возникает цепь идентификации между царем Езекией, Антонием, Иисусом, Данте-повествователем, отцом-героем новеллы Тургенева, его повествователем, слушателями внутри новеллы и самим автором.
Итак, «Первая любовь» как палимпсест «Ада» Данте – отнюдь не внешний, поверхностный прием, а указывает на важную внутреннюю задачу Тургенева и его повествователя выразить чувства человека, вспоминающего первую любовь, и создать идентификацию между героем, повествователем и слушателями (внутри новеллы), а также между автором и читателем самой новеллы. Идентификации служит то, что в обоих произведениях повествователь среднего возраста рассказывает о первой, рано закончившейся любви. В новелле Тургенева так же, как в пятой песне «Ада» Данте, любовь связана с соперничеством и ведет к страданию, так что образ Франчески, соотносящийся с образом Зинаиды, вызывает в повествователе (и, можно надеяться, в читателе) сострадание. Как в «Аде» Данте, так и в «Первой любви» избыток эмоций вызывает трудность выразиться правильно. В обоих произведениях созданию идентификации служит чтение внутри чтения.
Таким образом, читая новеллу «Первая любовь» как палимпсест «Ада» в аспекте риторики, мы можем сказать, что с помощью связей с творчеством Данте Тургенев выражает такие эмоции, как восторг любви, злость соперничества, страдание и сострадание, а также создает идентификацию между героями и повествователем, автором и читателем, более того: их всех с целой литературной традицией от Библии и рыцарских романов вплоть до своих времен.
Список литературы Новелла И.С. Тургенева «Первая любовь» как палимпсест «Божественной комедии» Данте Алигьери
- Аюпов И.С. Дантовские параллели в романе И.С. Тургенева «Дым» // Вестник Ставропольского государственного университета: Филологические науки. 2009. № 60. С. 137-142.
- Беляева И.А. Данте как скрытая причина спора: к вопросу о конфликте И.А. Гончарова с И.С. Тургеневым // Филологический класс. 2021. № 1. С. 190-205.
- Беляева И.А. Тургенев и Гончаров: Дантовские мотивы // Поэзия филологии. Филология поэзии: сборник конференции, посвященной памяти А.А. Илюшина, которому 12 февраля 2017 года исполнилось бы 77 лет. М.: А.Н. Кондратьев, 2018. С. 190-196.
- Боева Г.Н. Предвкушение фрейдизма: опыт интерпретации И.С. Тургенева «Первая любовь» // IV Фрейдовские чтения: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. СПб.: Восточноевропейский институт психоанализа, 2019. С. 80-92.
- Вдовин А.В. Дантовский пласт в «Поездке в Полесье» И.С. Тургенева // Intermezzo festoso. Liber amicorum in honorem Lea Pild: историко-филологический сборник в честь доцента кафедры русской литературы Тартуского университета Леа Пильд. Тарту: Ülikooli Kirjastus, 2019. С. 90-100.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М.: Intrada, 1999. 416 с.
- Данте Алигьери. Божественная комедия / пер. с итал. М. Лозинского. Пермь: Пермская книга, 1994. 479 с.
- Исрапова Ф.Х. Событие как «общее место» в прозаическом тексте // Семантические игры. Риторика художественного текста: сборник научных статей. Быд-гощ: Widawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. С. 224-234.
- Маркович В.М. Человек в романах И.С. Тургенева. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1975. 152 с.
- Трофимова Т.Б. Тургенев и Данте (к постановке проблемы) // Русская литература. 2004. № 2. С. 169-182.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 6: Дворянское гнездо; Накануне; Первая любовь: [Романы, повесть], 18581860. М.: Наука, 1981. 495 с.
- Тюпа В.И. Аналитика художественного (Введение в литературоведческий анализ). М.: Лабиринт, 2001. 226 с.
- Тюпа В.И. Палимпсест нарративный // Тезаурус исторической наррато-логии (на материале русской литературы): коллективная монография / под ред. В.И. Тюпы. Москва: Эдитус, 2022. С. 274-277.
- Dante Alighieri. La Divina commedia; con note tratte dai migliori commenti per cura di Eugenio Camerini. Milano: Sonzogno, 1898. 430 p.
- Genette G. Palimpsestes: la littérature au second degré. Paris: Seuil, 1982. 467 p.
- Henderson G. Reading the Signs with Kenneth Burke (1897-1993) // Литература двух Америк. 2020. № 9. С. 60-80.
- Jackson R.L. Взаимосвязь «Фауста» Гете и «Комедии» Данте в замысле рассказа Тургенева «Фауст» // American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Kiev, 1983. Vol. II: Literature, Poetics, History. Columbus, Ohio: Slavica, 1983. P. 240-249.