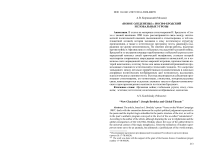"Новое оледененье": Иосиф Бродский и глобальные угрозы
Автор: Корчинский Анатолий Викторович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале стихотворения И. Бродского «Стихи о зимней кампании 1980 года» рассматривается связь между эксплицитной политической оценкой, высказанной в стихотворении, и той имплицитной логикой, которая заложена в саму поэтическую структуру произведения, а также в эстетическую программу поэта, нашедшую выражение на уровне автометатекста. По мнению автора работы, выступая против войны в Афганистане и глобальных последствий холодной войны, Бродский в то же время помещает проблематику глобальной угрозы в универсальный контекст своей трагической метафизики, согласно которой милитаризм современных сверхдержав оказывается аномальной, но в конечном счете оправданной частью мировой энтропии, противостояние которой невозможно, а потому более или менее адекватной реакцией на происходящее становится эстетический и этический стоицизм. Это «короткое замыкание» между детально проработанным художественным и довольно аморфным политическим воображаемым дает возможность исследовать идеологические установки поэта. В статье анализируется субъектная организация стихотворения, его композиция, стилистика, интертекстуальные связи, комментируются отдельные элементы текста и образно-символического строя произведения в контексте поэтологии Бродского.
Афганская война, глобальная угроза, стыд, стоицизм, эстетика, поэтология, политическое воображаемое, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/149127265
IDR: 149127265 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00078
Текст научной статьи "Новое оледененье": Иосиф Бродский и глобальные угрозы
Медийные события последних лет продемонстрировали, что стихотворениям Бродского в значительной мере присуща своего рода потенциальная злободневность. При всей их поэтической глубине и немалой сложности они легко актуализируются коллективной памятью читателей в связи с текущими происшествиями, прежде всего, заметим, кризисного или даже катастрофического порядка.
Например, в 2014-2015 гг, во время одного из крупнейших международных политических кризисов на постсоветском пространстве, в социальных сетях бурно обсуждались стихи «На независимость Украины», написанные более чем двумя десятилетиями раньше. Любопытно, что многими поклонниками творчества опального поэта, принципиально несовместимого с советской властью, эмигранта, «западника» и поборника ценностей индивидуальной свободы, близких либеральным, этот текст воспринимался как нонсенс, как эксцентричная выходка гения. В 2019 г. в связи с двойной годовщиной войны в Афганистане некоторые вспоминали «Стихи о зимней кампании 1980 года» как поэтическое высказывание, ставшее - наряду с «Переговорами в Кабуле» того же автора - одним из самых ярких откликов на этот печальный эпизод отечественной и мировой истории, в том числе потому что локальный военный конфликт рассматривался в нем как симптом надвигающейся глобальной катастрофы. Весной 2020 г, накануне 80-летнего юбилея поэта, цитирование его стихов в сети стало чуть менее серьезным (хотя повод несерьезным не назовешь): «Не выходи из комнаты...», «Письма римскому другу», «Посвящается стулу» и др. приходили в голову как поэтические описания образа жизни современного анахорета, как будто предвосхитившие замкнутое бытие миллионов людей на самоизоляции. Думается, что кроме «пророческих» слов: «... Запрись и забаррикадируйся / шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса» [Бродский 2001-2003, II, 410] в текстах Бродского привлекал еще и мужественно-иронический настрой, воодушевлявший во время эпидемии.
Ниже мы остановимся лишь на одном из упомянутых стихотворений и, не ставя перед собой задачу понять причину такой «отзывчивости» читательской памяти, увязывающей воедино сегодняшние события с отдаленными по времени произведениями поэта, попытаемся проанализировать характер и специфику художественной реакции Бродского на угрозы 214
(его) современности.
Если попробовать сразу ответить на поставленный вопрос, «Стихи о зимней кампании 1980 года» - это стихотворение, в котором имплицитная эстетическая позиция поэта и вытекающая из нее стоическая этика гораздо больше говорят о его политическом воображаемом, чем эксплицитные политические оценки. В них также дается довольно четкий сценарий персонального (а иного у Бродского и быть не может) преодоления-претерпевания страха перед опасностью, нависшей над всем человечеством.
Если мы вчитаемся в текст этого, казалось бы, остро-политического стихотворения, и попытаемся воспринять его в историческом контексте, то мы не обнаружим почти никаких политических и даже простых жизненных подробностей момента. Никакого даже беглого анализа самой «зимней кампании», ситуации в регионе или мировой политической обстановки в тексте нет. В нем нет ни проблематики холодной войны, ни намека на кризис политики разрядки, каким стала советская спецоперация в Афганистане. Ничего не сказано об участниках войны. Поэт, между прочим, не выражает сочувствия жертвам среди мирного населения, о которых лишь вскользь упоминается в тексте. Вместо этого лирический субъект занят напряженными, но довольно абстрактными философскими размышлениями об абсурдности войны во всемирном масштабе.
Итак, исторический контекст последовательно редуцирован, вынесен за скобки стихотворения. При этом название текста предельно точно сообщает о происходящем. Вторжение советских войск в Афганистан зимой 1979-1980 гг. становится поводом для поистине глобальных обобщений Бродского. В V-ой строфе конфликт изображается как некий спектакль космического масштаба:
...Существуй на звездах жизнь, раздались бы аплодисменты, к рампе бы выбежал артиллерист, мигая. Убийство - наивная форма смерти, тавтология, ария попугая...
[Бродский 2001-2003, III, 194]
В VI-ой строфе следуют заявления о надвигающейся глобальной катастрофе: «Новое оледененье - оледененье рабства / наползает на глобус» [Бродский 2001-2003, III, 195].
Таким образом, автор, минуя собственно политическую и историческую аргументацию, непосредственно переходит к эстетической и этической оценке события, опирающейся на ряд якобы самоочевидных ценностных установок.
В этом смысле вполне характерна парадоксальность того анализа стихотворения и вообще - творчества Бродского, который предпринимает Лев Лосев в «литературной биографии» поэта [Лосев 2008, 220-222]. С одной стороны, Лосев утверждает, что у Бродского не было не только ни- какой политической программы, но даже внятной позиции по отдельным вопросам, он лишь реагировал на те или иные события эмоциональнолирически. С другой стороны, это утверждение не мешает Лосеву интерпретировать афганский текст Бродского как четкое, хорошо продуманное (вернее - прочувствованное) и ответственное высказывание по геополитической повестке дня. Согласно Лосеву, Бродский считал злом все силы, участвующие в конфликте, включая СССР, самих афганцев как представителей нелюбимой им азиатско-мусульманской цивилизации и собственно западный военный блок во главе с США. Правда, в этой иерархии зол Запад оказывался злом наименьшим [Лосев 2008, 221].
Одна из лучших теорий идеологии применительно к литературному творчеству была выработана, на наш взгляд, «кружком Бахтина» в 1920-е гг., см. в частности: [Медведев 2018, 52-54]. Думается, Лосев, не теоретизируя специально на этот счет, пользуется весьма удачным современным пониманием идеологии в ее ценностно-политическом аспекте: наличие довольно внятной политической оценки при отсутствии рациональной политической аргументации; политическое представление, воплощенное в аморфных и ассоциативных фигурах воображения и в то же время интуитивно соотносимое с определенными этическими и эстетическими ценностями.
Это «короткое замыкание» между довольно бессистемными политическими реакциями поэта и выверенной системой его эстетической аксиологии отчетливо проявляет себя на уровне художественной формы. Не покушаясь на реконструкцию поэтической (и политической) идеологии Бродского в целом, ниже мы коснемся лишь трех аспектов устройства стихотворения: его субъектной организации, поэтической семантики эпиграфа и двух художественных образов, во многом ключевых для исповедуемой поэтом картины мира - образам Севера и моллюска.
В тексте Бродского обращает на себя внимание пространственная двойственность точки зрения. Лирический субъект повествует о войне с позиции предельно отстраненного безличного наблюдателя, способного как находиться в максимальной близости к событиям, добиваясь эффекта присутствия, доступного лишь свидетелям и участникам боевых действий, так и созерцать умозрительно-фантастические сцены космического масштаба (ср. гротескную картину вышеупомянутого вселенского театра или образ собаки, забытой в стратосфере, и в отчаянии обращающейся по радиосвязи к Шарику - земному шару). В то же время у этого фантазирующего наблюдателя есть вполне конкретная локализация: в VI-ой строфе поэт адресуется к обывателю, охваченному паникой по поводу шествия войны по планете. Можно предположить, что это - обращение субъекта к самому себе, что отчасти подтверждается последующим слиянием нена-зываемого «я» и риторического «ты» в обобщенно-глобальное «мы».
Так или иначе, субъект всемирно-отстраненного взгляда, воображаемый очевидец Афганской войны и потрясенный ею обыватель, переживающий надвигающуюся мировую катастрофу в своей комнате, оказываются символически объединены общим художественным пространством. В 1-ой строфе дается синтетический образ, в котором метафорически сочетается театр военных действий и бытовой распорядок обыденной жизни:
Небо - как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса поднимается взрыв...
[Бродский 2001-2003, III, 193]
Этот повседневно-бытовой локус вновь возникает в VI-ой строфе, где, собственно, впервые и появляется адресат автокоммуникативного послания:
Натяни одеяло, вырой в трухе матраса ямку, заляг и слушай «уу» сирены... ...Дует из коридора, скважин, квадратных окон. Поверни выключатель, свернись в калачик.
Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.
Утром уже не встать с карачек.
[Бродский 2001-2003, III, 195]
По-видимому, впечатлительному альтер-эго лирического субъекта предлагается залечь в труху того же самого матраса, который служил метафорой афганской пустыни в первой строфе.
На протяжении первых четырех строф имеет место чередование общих и крупных планов, универсальных обобщений и «репортажных» кадров с места военных событий. В V-ой строфе эти два взгляда совмещаются: дается описание мира после боя, а затем возникает та самая картина космического театра войны («Существуй на звездах / жизнь, раздались бы аплодисменты...») и рассуждение о сущности убийства. Далее глобальная панорама планетарной зимы тоже сочетается с бытовой конкретикой вплоть до финальной сцены металитературного появления самого поэта: «Если что-то чернеет, то только буквы. / Как следы уцелевшего чудом зайца» [Бродский 2001-2003, III, 194].
Любопытно, что точка зрения наблюдателя периодически совмещается с точкой зрения то военных, то их жертв. В первой строфе мы не можем точно установить, кого именно убивает взрыв - наступающих «шурави» или мирных афганцев:
...Брызгающая воронкой, как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться в грунт, покрывается твердой пленкой.
[Бродский 2001-2003, III, 193]
Во второй строфе говорится о телах убитых. И только когда в Ш-ей строфе упоминаются советские солдаты, стоящие лагерем в караван-сарае, а в IV-ой строфе описываются «развалины аула», мы можем сделать предположение, что в начале текста речь шла именно о расстреле гражданских (хотя с тем же успехом можно допустить, что приведенный фрагмент повествует о солдате, который подорвался на мине). Показательно, что в тексте полностью отсутствуют противники «наших» - моджахеды, как будто советский «ограниченный контингент» ведет войну с мирным населением или даже непосредственно с самой жизнью: «молодежь» ловит в прицел «муху жизни» [Бродский 2001-2003, III, 194].
В третьей строфе взгляд аукториального рассказчика, с начала повествования как бы «сопровождавшего» колонну «воинов-интернационалистов» в качестве их воображаемого спутника, не только описывающего происходящее, но и философствующего, на миг совмещается с взглядом гипотетического афганца:
Заунывное пение славянина вечером в Азии. Мерзнущая, сырая человеческая свинина лежит на полу караван-сарая.
[Бродский 2001-2003, III, 193]
Словосочетание «человеческая свинина», которое Лосев интерпретирует как парафраз антивоенного клише «пушечное мясо» [Лосев 2008, 221], можно понять еще и в том смысле, что плоть русских вызывает физиологическое отвращение именно с точки зрения мусульманского пищевого табу. Однако далее точка зрения вновь меняется, и передаются ощущения солдата:
Тлеет кизяк, ноги окоченели; пахнет тряпьем, позабытой баней. Сны одинаковы, как шинели.
Больше патронов, нежели воспоминаний, и во рту от многих «ура» осадок...
[Бродский 2001-2003, III, 194]
Кажется немаловажным, что насильника и жертву (и одновременно -удаленного наблюдателя) объединяет утрата воспоминаний: у солдат -«больше патронов, нежели воспоминаний» [Бродский 2001-2003, III, 194], а «оледененье рабства» подминает под себя «державы, воспоминанья, блузки» [Бродский 2001-2003, III, 195].
Сложность субъектной организации произведения коррелирует с композиционным устройством текста на языковом уровне. В целом речь лирического субъекта представляет собой нейтральный философско-поэтический язык, типичный для стихотворений Бродского. В нем также имеются характерные резко-иронические включения «чужого слова».
В этом смысле интересно, например, слово «Чучмекистан»: «Ясный морозный полдень в долине Чучмекистана» [Бродский 2001-2003, III, 193]. Бродский избегает прямого именования местности, в которой происходит действие. Афганистан не упоминается ни разу, что отчасти объясняется актуальностью высказывания, отсылающего к общеизвестным новостным сообщениям. С одной стороны, географически неопределенный ксенофобский топоним, производный от распространенного в просторечии позднесоветского времени этнонима, применявшегося преимущественно к среднеазиатским народам СССР, в стихотворении соотносится с предполагаемой речью и сознанием советского солдата. С другой стороны, это слово встроено в предложение, являющееся парафразом эпиграфа - строчки из Лермонтова: «В полдневный жар в долине Дагестана...» При этом лермонтовский «полдневный зной» по контрасту заменяется на «морозный полдень», а четкое, нейтральное обозначение местности у Лермонтова - на расплывчатое «Чучмекистан».
К Лермонтову мы еще вернемся, а здесь заметим, что подобные вкрапления «чужого слова» в язык поэта одновременно служат знаком сближения с сознанием носителя этого слова и предельного отстранения от него - как отстранения от самого себя (напомню, что это слово без всякой ролевой и речевой маски встречается в эссе Бродского «Посвящается позвоночнику»). Эта стратегия противостоит как классической языковой маркированности ролевого субъекта, когда речь поэта резко отлична от речи ролевого героя, так и модернистскому слиянию речевых позиций, когда за высказываниями героя угадывается сам лирический субъект [см.: Моисеева 2007, 44-60].
В этом смысле интересно, что в тексте Бродского хотя и присутствуют приметы местной культуры (Магомет, свинина, «чалма Аллаха» и т.д.), но эти символы носят подчеркнуто стереотипный характер и принадлежат опять-таки скорее языку чужаков - советских солдат и самого поэта, употребляющего их сугубо иронически (образы исламского полумесяца, «чалмы Аллаха» встречаются и в других его текстах). Жертвы у Бродского, будь то погибшие в войне или ожидающие глобального оледененья, не имеют собственного языка, хотя они и не молчат:
Бормоча, выкатывая орбиты, мы превращаемся в будущие моллюски, бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
[Бродский 2001-2003, III, 195]
Амбивалентность лирического субъекта, в одно и то же время сливающегося и не совпадающего со своими героями (как с солдатами, так и с мирными жителями), согласуется с двумя важными понятиями, которые появляются в тексте. Это понятия стыда / позора и рабства. Кто является субъектом стыда? Определенно не советские солдаты и не советское госу- дарство - у них эта эмоциональная функция отсутствует: «Краска стыда вся ушла на флаги» [Бродский 2001-2003, III, 195]. При этом Бродский делает весьма этически рискованное заявление, восхищаясь людьми своего поколения:
Слава тем, кто, не поднимая взора, шли в абортарий в шестидесятых, спасая отечество от позора!
[Бродский 2001-2003, III, 195]
Скорее всего, стыд испытывает именно лирический субъект, который, частично отождествляясь со своими бывшими соотечественниками, в настоящий момент оккупирующими чужую страну, как бы переживает эти чувства вместо них, поскольку, по его мнению, сами они на это не способны. При этом он стыдится не только их, но и самого себя - отсюда самоуничижительное изображение обиталища поэта и подробностей его частной жизни. При чтении текстов Бродского может сложиться впечатление, что в свой американский период он довольно жестко и враждебно относится как к СССР, так и к культуре Ближнего Востока и Средней Азии (тут можно отослать к известному эссе «Путешествие в Стамбул» и не менее известному стихотворению «Назидание»), Финская славистка Санна Турома справедливо отмечает, что этому его взгляду на Восток свойственны черты ориентализма - это взгляд колонизатора, носителя имперского сознания [Турома 2004, 164-180]. Но стоит также учитывать, что этот ориентализм амбивалентен: он направлен и против самого себя, своей родины, той культуры, к которой сам поэт принадлежит. Это, если так можно выразиться, своего рода аутоориентализм. Отсюда, видимо, и жгучее чувство стыда.
Столь же непростую связь с субъектом имеет то, что Бродский называет «оледененьем рабства», наползающим на глобус. Это выражение не так банально, какой кажется сама мысль о тоталитарной угрозе, исходящей от «империи зла», которая порабощает все больше стран (напомню, что к моменту написания этого текста еще свежо в памяти подавление «пражской весны» в 1968 г, которому Бродский посвятил иносказательное стихотворение «Письмо генералу Z.»). Дело в том, что миру, в том числе комфортному цивилизованному миру, где находится лирический субъект стихотворения, грозит не просто военное насилие и плен, но именно рабство. А для этого что-то должно произойти и с самим субъектом - человека нельзя сделать рабом только при помощи внешней силы, если он при этом сам не станет рабом внутренне, субъективно. И это вновь тесно связывает каждого из обывателей, к которым, как к самому себе, обращается поэт, с тем, что происходит в Афганистане.
Тревожная тема «нового оледененья» не в меньшей степени, чем в прямо, почти плакатно высказанных опасениях, укоренена в эстетических установках Бродского, в его поэтологии. В этой перспективе примечатель- ны два устойчивых образа, присутствующих и в анализируемом тексте -образы Севера и моллюска. И тот, и другой отсылают к программному для Бродского циклу «Часть речи», созданному за четыре года до «Стихов о зимней кампании 1980 года».
Бродский часто заявлял, что его собственный стиль, поэзия его любимых предшественников и поэтическая речь как таковая генетически связаны с холодом, лишающим жизни движением времени, энтропией и смертью. В известном тексте из «Части речи» «Север крошит металл, но щадит стекло...» он пишет: «Холод меня воспитал и вложил перо, / в пальцы, чтоб их согреть в горсти» [Бродский 2001-2003, III, 126]. У этого самоопределения есть литературный источник: «Холод создал поэта», -цитирует Бродский максиму Одена в эссе «Поклониться тени» [Бродский 2001-2003, V, 272]. Мотив письма как сохранения минимума жизни в условиях оледенения возникает и в «Стихах о зимней кампании 1980 года», в процитированной выше финальной фразе. Но значимо не только то, что перо согревает, сохраняет жизнь вопреки вселенскому похолоданию, но и то, что поэзия на самом деле соприродна именно холоду. В эссе 1977 г. «В тени Данте» Бродский пишет, что поэзия имеет много общего с идеей загробного мира, который сама и выдумала, а «искусство подражает скорее смерти, чем жизни» [Бродский 2001-2003, V, 78]. Отсюда и требование нейтральности, сдержанности и известной холодности тона поэтического выражения (ср. там же характеристику интонации стиха Эудженио Монтале как «холодной, почти обессиленной, падающей»).
Этой теме в столь же космологической огласовке посвящена и «Эклога 4-я (зимняя»)», написанная в том же 1980 г, что и разбираемое нами стихотворение. Но интересно, что метафизическая фигура Севера, воплощающего в себе холод и смерть, а вместе с ней и поэтологические идеи Бродского, в стихах об Афганистане приобретают довольно конкретные геополитические черты. Север, «пастух и сеятель», «распространяя холод», гонит на Юг стадо танков, похожих на слонов. Точно также в «Эклоге» ангельское воинство, ассоциированное с холодом Хроноса, несущего в мир температурный коллапс, сравнивается с «белофиннами в маскхалатах», приближающимися к советской границе [Бродский 2001-2003, III, 200]. Таким образом, нехитрый анализ семантического контекста показывает, что, вопреки Лосеву, та или иная военная агрессия с ее «механической силой» не то чтобы совсем «чужда самой природе» [Лосев 2008, 220], коль скоро в самой природе заложена программа самоуничтожения.
Судьба человека на земле - «возвращение к моллюску», писал Бродский еще в 1967 г. в стихотворении «Морские маневры» [Бродский 2001 2003, II, 192]. Образ будущих моллюсков в «Стихах о зимней кампании 1980 года» также отсылает к циклу «Часть речи». Уже процитированной выше фразе «мы превращаемся в будущие моллюски, / бо никто нас не слышит, точно мы трилобиты» в «Части речи» соответствуют известные стихи:
Через тыщу лет из-за штор моллюск извлекут с проступившим сквозь бахрому оттиском «доброй ночи» уст, не имевших сказать кому.
[Бродский 2001-2003, III, 128]
В «Стихах о зимней кампании 1980 года» этот мотив приобретает исторический, а вернее - постисторический масштаб. При этом Бродскому оказывается совершенно чужда апокалиптика - христианская, иудейская или хотя бы светская, весьма распространенная в современном интеллектуальном пространстве и оперирующая понятиями конца человека, конца истории, конца современности и т.п. Будущий конец человечества и деградация всех форм живого рассматривается не как сверхъестественное событие, ведущее к преображению мира, а как закономерный этап естественной истории. Это нисхождение по эволюционной лестнице отчасти, вероятно, отсылает к мандельштамовскому «Ламарку» (1932). Но если у Мандельштама возврат «к кольчецам» и «к усоногим» описывается со специфической веселостью ламаркиста, поскольку то, что «по видимости кажется деградацией», «в порядке самой природы может оказаться развитием» [Ямпольский 2013, 103], то у Бродского человек фатально устремлен к «моллюскам» и «трилобитам» по закольцованной траектории - вперед в прошлое. И в этом смысле тот стремительный регресс мира, эпизодом которого становится Афганская война, тоже является телеологически оправданным, хотя и несколько форсированным движением.
Бродского в стихотворении возмущает не сама смерть, которую несут в Афганистан беззаботные советские воины, а убийство как «наивная форма смерти, тавтология, ария попугая» [Бродский 2001-2003, III, 194]. Почему, собственно, убийство - это тавтология? По-видимому потому, что человек и без того приговорен, а насилие и убийство не только ускоряет, но и как бы абсурдно удваивает его конечность, превращает ее из трагедии в отвратительный фарс. Идея незрелой, неестественной смерти и само противопоставление хорошей и плохой кончины, возможно, восходит к Рильке (см., например: [Рильке 1998, 236]). Так или иначе, в рамках разговора о связи эстетической концепции поэта и его политической идеологии важно, что убийство как тавтологию Бродский оценивает прежде всего именно по шкале вкуса.
Таким образом, получается, что политическое насилие мировых империй, захватывающее планету наподобие оледенения, при всей эстетической безвкусице и этической несостоятельности, получает метафизическое оправдание в универсальной экзистенциально-поэтологической перспективе, поскольку соответствует естественному порядку вещей.
В связи с этим интересен смысл эпиграфа к стихотворению. В первую очередь именно он вводит тему Афганской войны как внелитературного события в литературный ряд. Но тут есть один нюанс.
В стихотворении Лермонтова «Сон» (1841), из которого Бродский бе- рет знаменитый стих, лирический субъект и погибший на Кавказе герой тождественны. У Бродского поэта и его героев разделяют огромные пространства, но, как мы уже говорили, в определенном смысле эти фигуры сходятся. И эпиграф служит еще одним маркером такого совмещения.
Лермонтовский Кавказ - колониальный фронтир Российской империи в XIX в. Советские танки, вторгаясь в Афганистан в конце века ХХ-го, как бы повторяют имперский опыт России, расширяя свое военно-политическое влияние в Средней и Южной Азии. И хотя история эта повторяется в виде тавтологического трагифарса, эпиграф фиксирует двойственность в оценке сегодняшней колониальной политики одной из новейших империй. С одной стороны, эта политика рассматривается как мировой позор, мучительно переживаемый «пасынком державы дикой» [Бродский 2001-2003, III, 209]. С другой стороны, лермонтовский Кавказ для Бродского давно является естественной частью Советского Союза («Неугомонный Терек там ищет третий берег» [Бродский 2001-2003, III, 147], - говорит Бродский описывая покинутую родину), а потому возникающая историческая и литературная ретроспектива вольно или невольно реабилитирует всякую современную колонизацию в глазах космического зрителя, созерцающего глобальный спектакль нового оледенения.
Список литературы "Новое оледененье": Иосиф Бродский и глобальные угрозы
- Бродский И.А. Сочинения: в 7 т. СПб., 2001-2003.
- Лосев Л. Иосиф Бродский: опыт литературной биографии. М., 2008.
- Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику // Медведев П.Н. Собрание сочинений. Т. 2. СПб., 2018.
- Моисеева А.А. Эволюция ролевой лирики на рубеже XIX-XX веков: формирование ролевого героя нового типа: дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Пермь, 2007.
- Рильке Р.М. Избранные сочинения. М., 1998.
- Турома С. Поэт как одинокий турист: Бродский, Венеция и путевые заметки // Новое литературное обозрение. 2004. № 3 (67). С. 164-180.
- Ямпольский М. Пространственная история. СПб., 2013.