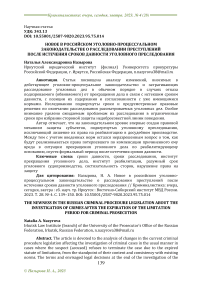Новое в российском уголовно-процессуальном законодательстве о расследовании преступлений после истечения сроков давности уголовного преследования
Автор: Назырова Н.А.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (28), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу изменений, вносимых в действующее уголовно-процессуальное законодательство и затрагивающих расследование уголовных дел в обычном порядке в случаях отказа подозреваемого (обвиняемого) от прекращения дела в связи с истекшим сроком давности, с позиции их содержания и согласованности с уже имеющимися нормами. Исследованию подвергнуты сроки и предусмотренные правовые решения по окончании расследования рассматриваемых уголовных дел. Особое внимание уделено ожидаемым проблемам их расследования в ограниченные сроки при избрании стороной защиты недобросовестной линии поведения. Автор отмечает, что на законодательном уровне впервые создан правовой механизм защиты субъектов, подвергнутых уголовному преследованию, исключающий лишение их права на реабилитацию в досудебном производстве. Между тем с учетом введенных норм остался неразрешенным вопрос о том, как будут реализовываться права потерпевшего по компенсации причиненного ему вреда в ситуации прекращения уголовного дела по реабилитирующему основанию, спустя формальный период после истечения сроков давности.
Сроки давности, сроки расследования, институт прекращения уголовного дела, институт реабилитации, разумный срок уголовного судопроизводства, состязательность сторон, нарушение права на защиту
Короткий адрес: https://sciup.org/143181129
IDR: 143181129 | УДК: 343.13 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.95.75.014
Текст научной статьи Новое в российском уголовно-процессуальном законодательстве о расследовании преступлений после истечения сроков давности уголовного преследования
Изменения в УПК РФ по вопросу определения предельных сроков расследования дел в случаях, когда истек срок давности уголовного преследования, а подозреваемый (обвиняемый) выразил несогласие с прекращением уголовного дела по указанному нереабилитирующему основанию, ожидались почти год после высказанной правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ).
Решение КС РФ о необходимости ограничения расследования строго установленным периодом с момента истечения сроков давности по рассматриваемым уголовным делам при всей своей кардинальности к действующим нормам не вступает в противоречие с общей тенденцией гуманизации российского уголовнопроцессуального законодательства. Гуманизм признается основой государственной политики и правовой системы России. Вопросам гуманизации уголовного судопроизводства в декабре 2022 года уделил внимание глава государства В. В. Путин, дав поручение по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации о принятии мер по обеспечению no. 4, pp. 139–150 (in Russ.)
соблюдения законности и обоснованности сроков расследования уголовных дел.1 Важность наведения порядка при продлении процессуальных сроков на досудебной стадии в своем докладе отметил и Генеральный прокурор Российской Федерации И. В. Краснов, указав на то, что «в результате безлимитных сроков расследования утрачиваются не только доказательства, порой и сам его смысл»2.
Необходимо отметить, что законодатель не ограничился введением крайних сроков расследования дел после истечения сроков давности уголовного преследования применительно к каждой из предусмотренных категорий преступлений. В российском уголовно-процессуальном законодательстве также появилась важная императивная норма, предписывающая субъекту расследования прекратить досудебное производство по уголовному делу в соответствии с основанием, установленным в п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ3, если по завершении предельного срока вышеуказанного расследования такое дело не передано в суд либо по нему не принято иное окончательное правовое решение. Перечисленные и другие законодательные нововведения, затрагивающие разбираемые случаи расследования преступлений после истечения сроков давности уголовного преследования, вносят существенные коррективы в институт прекращения уголовного дела, в связи с чем нуждаются в анализе с точки зрения их содержания и согласованности с уже имеющимися уголовнопроцессуальными нормами. Изложенные доводы свидетельствуют об актуальности исследования законодательных предписаний в рассматриваемой части для уголовнопроцессуальной науки и правоприменительной практики. Институт прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования становился предметом изучения многих авторов [1; 2; 3; 4; 5], однако, выносимые для научной дискуссии в данной работе вопросы ранее не исследовались.
Основная часть
Как известно, в 2022 году КС РФ рассмотрел дела о проверке конституционности положений УПК РФ, связанных с истечением сроков давности уголовного преследования. Поводом для рассмотрения одного из дел послужила жалоба гражданина Р.4. В ней гражданин Р. указал на неопределенность своего правового положения из-за продолжившегося в отношении него уголовного преследования сотрудниками правоохранительных органов после истечения 10летнего срока давности по тяжкому преступлению, в котором он обвинялся. Обратившийся с жалобой гражданин Р. свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, настаивал на прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Результат ее рассмотрения КС РФ – постановка принципиальной точки в затянувшейся неразрешенной ситуации «бесконечного» расследования «проблемных» уголовных дел (хотя и только во взаимосвязи с институтом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, по которым подозреваемые (обвиняемые) выразили свое несогласие на прекращение по указанному нереабилитирующему основанию).
Итак, 18.07.2022 КС РФ указал на пробел в российском уголовнопроцессуальном законодательстве, вызванный отсутствием ограничения на законодательном уровне сроков допустимого продолжения расследования уголовных дел в отношении лиц, заявивших возражения на их прекращение в связи с истекшим сроком давности привлечения к уголовной ответственности, и
-
4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2022 № 33-П по делу о проверке
конституционности ч. 2 ст. 27 УПК РФ и п. «в»
потребовал его устранить. До внесения соответствующих изменений КС РФ установил предельные сроки расследования по рассматриваемым уголовным делам, разграничив их в зависимости от категории преступления следующим образом:
-
– по преступлениям небольшой тяжести – 3 месяца;
-
– по преступлениям средней тяжести – 6 месяцев;
-
– по тяжким преступлениям – 9 месяцев;
-
– по особо тяжким преступлениям – 1 год.
Обозначенные предельные сроки подлежали применению спустя год с момента официального опубликования Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2022 № 33-П. До обозначенного времени предусматривался предельный 12-месячный срок (безотносительно к конкретной категории преступления), по истечении которого уголовное дело подлежало незамедлительному прекращению и без согласия подозреваемого (обвиняемого), если следователь (дознаватель) не передал дело в суд. При этом за подозреваемым (обвиняемым) признавалось право на обжалование в суд принятого в соответствии с указанным порядком правового решения.
Федеральный законодатель внес существенные корректировки в предельные сроки расследования рассматриваемых уголовных дел по сравнению с правовой позицией, сформулированной КС РФ, в сторону их сокращения по преступлениям небольшой и средней тяжести и уравнивания сроков для тяжких и особо тяжких преступлений, а именно:
-
– по преступлениям небольшой тяжести – 2 месяца;
-
– по преступлениям средней тяжести – 3 месяца;
-
– по тяжким и особо тяжким преступлениям – 12 месяцев.
Представляется, что данные корректировки логически согласуются с действующими нормами российского уголовно-процессуального законода- тельства, ограничивающими уполномоченных субъектов в сроках производства предварительного расследования. Для следователей указанный процессуальный срок с момента возбуждения уголовного дела составляет 2 месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), для дознавателей – 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Существующая правоприменительная практика в течение долгого времени подтверждает, что предусмотренные сроки достаточны для раскрытия преступления, установления подлежащих доказыванию обстоятельств и в зависимости от собранной совокупности доказательств привлечения к уголовной ответственности виновных лиц и передачи дела в суд либо прекращения уголовного дела. Согласно статистическим данным работы СК РФ, МВД, ФСБ, ФССП и МЧС, за 1 месяц 2023 г. в срок свыше установленного УПК РФ окончено только 28,3 % (АППГ – 24,5 %), из них следователями СК РФ – 24,4 % (АППГ – 21,8 %), МВД РФ – 36,7 % (АППГ – 36,3 %), ФСБ РФ – 100 % (АППГ – 0 %), ФССП – 15,9 % (АППГ – 38,1 %), МЧС – 0 % (АППГ – 100 %)5. При наличии оснований сроки дознания и предварительного следствия продлеваются в установленном порядке. Тяжесть совершенного преступления, как правило, оказывает влияние на сложность расследования (правовую и фактическую), которая в свою очередь учитывается при определении разумного срока уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ). Так, в соответствии с ч. 5 ст. 162 УПК РФ срок предварительного следствия по уголовным делам, представляющим особую сложность в расследовании, может быть продлен до 12 месяцев. Неслучайно законодатель предусмотрел именно 12-месячный предельный срок расследования после истечения сроков давности по тяжким и особо тяжким преступлениям, которые могут отличаться сложностью в расследовании в связи с многоэпизодностью, многосубъект-ностью, большим объемом следственных действий, длительностью судебных экспертиз и другими аспектами.
В научной среде высказываются мнения, что круг лиц, отстаивающих свою невиновность и намеренных использовать введенные нормы для ее доказывания, не будет потенциально большим. Однако указанная категория подозреваемых (обвиняемых) не единственная, кто займет позицию отказа от прекращения уголовного дела по истечении сроков давности уголовного преследования и будет добиваться продолжения расследования в обычном порядке в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к срокам и итоговым решениям. К лицам, подпадающим под измененный порядок окончания расследования за сроками давности уголовного преследования, будут относиться и подозреваемые (обвиняемые), установленные только к концу истечения рассматриваемых сроков давности либо после их наступления, назовем их условно второй категорией подозреваемых (обвиняемых). Правоохранительные органы ежедневно осуществляют деятельность по раскрытию преступлений прошлых лет. Например, за 5 месяцев 2023 года сотрудниками МВД России раскрыто 27,7 тыс. преступ-лений6, при этом не исключаются ситуации раскрытия преступлений прошлых лет спустя длительные сроки с момента возбуждения уголовного дела. Более того, сам факт совершения общественно опасного деяния, особенно по преступлениям с формальным составом, часто устанавливается только во время, приближенное к истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также по прошествии их. Срок давности применим, если лицо не уклонялось от правосудия. В то же время преступник вовсе не обязан являться с повинной в правоохранительные органы, чтобы способствовать раскрытию преступления, загладить причиненный вред, встать на путь исправления и выразить готовность получить заслуженное наказание. Таким образом, речь не всегда может вестись о подозреваемых (обвиняемых), которые на протяжении нескольких лет доказывали свою невиновность в совершении преступления (как в рассмотренном случае с гражданином Р., в отношении которого срок расследования уголовного дела составил 34 месяца). Высока вероятность, что новыми уголовно-процессуальными нормами благодаря возникшей возможности безоговорочного прекращения уголовного дела по реабилитирующему основанию спустя определенный законом срок пожелают воспользоваться подозреваемые (обвиняемые) из второй условной категории. И цифры по данным участникам не настолько малы, чтобы не испытывать беспокойство при прогнозировании роста числа реабилитированных. В подтверждение сказанному приведем сведения, использованные в докладе Генерального прокурора России И. В. Краснова, о прекращении за 2022 год 8,5 тыс. уголовных дел в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, по которым лица были установлены7. Как представляется, при наступлении сроков давности сторона защиты второй рассматриваемой нами условной категории подозреваемых (обвиняемых) выразит отказ от прекращения уголовного дела по указанному основанию и изберёт позицию искусственного затягивания продолжившегося расследования, чтобы не только освободиться от уголовной ответственности, но и воспользоваться реабилитацией.
Исходя из предельных временных сроков, установленных законодателем для продолжения расследования в обычном порядке после отказа подозреваемого (обвиняемого) от прекращения уголовного дела в связи с наступлением сроков давности уголовного преследования, можно сделать вывод, что указанные сроки учитывались для обеих условно отмеченных нами категорий подозреваемых (обвиняемых). Для первой категории это предельный срок, чтобы принять решение о реабилитации подозреваемого (обвиняемого) по «проблемным» уголовным делам. Для второй категории это достаточный срок, чтобы провести расследование в полном объеме и направить дело в суд.
Уделим внимание «проблемным» уголовным делам. Жалоба по одному из них стала поводом для рассмотрения КС РФ и последовавших изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Под «проблемными» понимаются дела, по которым выполнены все возможные следственные действия, однако в результате их производства собрана недостаточная совокупность обвинительных доказательств для направления уголовного дела в суд, в связи с чем встает вопрос о прекращении уголовного дела. Реализовать на практике основополагающий конституционный принцип о необходимости толкования в пользу обвиняемого неустранимых сомнений в его виновности далеко не так просто. И причина кроется не только в негативных показателях прекращений по реабилитирующим основаниям для органов предварительного расследования, кото- рые они стремятся избежать, что часто ставится в упрек правоприменителям в научных кругах. Состязательность уголовного судопроизводства предполагает наличие второй стороны, заинтересованной в исходе уголовного дела по преступлениям с материальным составом, то есть потерпевшего. По большинству уголовных дел потерпевшие не согласны принять как данность факт прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям в отношении лица, на которого собраны пусть даже минимальные данные, свидетельствующие о его возможной причастности к преступлению. Поэтому принятие следователем либо дознавателем решения о прекращении влечет за собой жалобы от данного участника и дальнейшую отмену вынесенного решения в рамках ведомственного контроля или прокурорского надзора. И данный круг прекращений и отмен действительно может быть бесконечен.
Вместе с тем прекращение уголовного дела по любым нереабилитирующим основаниям, включая истечение сроков давности уголовного преследования, требует доказанности фактических обстоятельств [6, с. 12], обосновывающих наличие события преступления и подозрение (обвинение) конкретного лица в причастности к его совершению. Возможность освобождения лица от наказания лишь при наличии оснований для его привлечения к уголовной ответственности является постулатом для уголовного процесса. Изложенное утверждение одинаково применимо к досудебному и судебному производству. В соответствии с конституционно-правовым пониманием, решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в досудебном производстве не влечет за собой признание лица (подозреваемого либо обвиняемого) виновным в совершении преступления [7, с. 98], но тем не менее вызывает негативные последствия. В числе наиболее значимых из них целесообразно выделить:
-
– утрачивание права подозреваемого (обвиняемого) на реабилитацию, закрепленного в гл. 18 УПК РФ;
-
– неснятое обязательство по возмещению причиненного преступлением вреда.
Особое внимание следует акцентировать на реабилитации. Как справедливо отмечает О. В. Волынская, структура этапа окончания предварительного расследования его прекращением включает в себя ряд элементов, от принятия решения и его оформления до проверки законности и обоснованности принятого решения и применения института реабилитации [6, с. 13].
Институт реабилитации является особой формой государственной ответственности, обеспечивающей приоритет гражданина над государством [8, с. 25]. Рассматриваемая ответственность выражается в принятии на себя государством негативных имущественных последствий ради достижения общественно полезных целей, среди которых обеспечение законности, восстановление доброго имени и др. [9, с. 30]. Само содержание института реабилитации в досудебном производстве включает в себя два взаимосвязанных компонента: признание со стороны государства невиновности подозреваемого (обвиняемого) и возмещение причиненного ему вреда [10, с. 51]. К последнему, согласно нормам главы 18 УПК РФ, относится возмещение имущественного и морального вреда (в денежном выражении и путем принесения прокурором от имени государства официальных извинений), а также восстановление иных прав реабилитированного. Основной проблемой в их реализации является несоответствие между запрашиваемой суммой для морального удовлетворения причиненных страданий от уголовного преследования и присуждаемой [11, с. 41–42], тем не менее реабилитированным в предусмотренном порядке удовлетворяются их исковые требования и производятся определенные выплаты.
Возвращаясь к серьезной корректировке законодателем первоначальной правовой позиции КС РФ, предполагавшей возможность прекращения уголовного дела независимо от согласия подозреваемого (обвиняемого) спустя год после продолжения расследования в обычном порядке по причине отказа указанных участников на его прекращение после истечения сроков давности, отметим, что новыми нормами фактически устранена возможность лишения подозреваемого (обвиняемого) права на реабилитацию спустя формальный срок. В пользу принятия законодателем дополнительных механизмов правовой защиты подозреваемых (обвиняемых), исключающих лишение их права на реабилитацию, можно указать риск бездействия органов предварительного расследования в период продолжения производства по уголовному делу. Вполне допустимо, что в отдельных случаях подобный риск существовал, так как прекратить уголовное дело по нереабилитирующему основанию можно было через фиксированный срок после истечения срока давности уже без волеизъявления подозреваемого (обвиняемого). Однако у принятых уголовно-процессуальных изменений есть и оборотная сторона – вероятность недобросовестного поведения стороны защиты, препятствующей проведению расследования. И в данном случае каких-либо механизмов правовой защиты для стороны обвинения не предусмотрено. Кроме того, правовому регулированию действующего УПК РФ подверглись нормы, касающиеся возможности задержания и избрания меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу, расследование по которому продолжено по причине отсутствия согласия подозреваемого (обвиняемого) на прекращение в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Ранее, в 2000 г., КС РФ сформулировал позицию о недопустимости заключения под стражу лиц, в отношении которых не может быть назначено наказание в виде лишения свободы8. С июня 2023 года по рассматриваемым делам недопустимо избрание любой меры пресечения и производство задержания, что, безусловно, ограничивает органы предварительного расследования в средствах обеспечения надлежащего поведения таких подозреваемых (обвиняемых). При недобросовестной линии защиты указанные участники могут воспользоваться новыми нормами, чтобы не являться по различным уважительным и даже неуважительным причинам к субъектам предварительного расследования (заболеть, уехать, просто игнорировать вызов на следственное действие), тем самым препятствуя своевременному принятию решения. К примеру, производству судебной экспертизы по уголовному делу предшествует ознакомление подозреваемого (обвиняемого) с постановлением следователя (дознавателя) о ее назначении, в противном случае будет допущено нарушение принципов состязательности и равноправия сторон, а также права на защиту лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Неявка подозреваемого (обвиняемого) по вызову в орган предварительного расследования для проведения ознакомления объективно не позволит своевременно провести судебную экспертизу. Между тем практически по всем уголовным делам в современном мире используются специальные знания, позволяющие более полно исследовать обстоятельства происшедшего и правильно квалифициро- вать совершенное деяние. Отдельные судебные экспертизы, в частности психиатрическая, требует непосредственного участия в ней подозреваемого (обвиняемого) в качестве подэкспертного лица, психическая деятельность которого подвергается изучению с позиции юридически значимых ситуаций. При этом установленный срок, обязывающий субъекта расследования прекратить уголовное дело по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ с момента истечения сроков давности в зависимости от конкретной категории преступления, приостановить на законных основаниях не представляется возможным. Такая тактика стороны защиты будет способствовать признанию за лицами, умышленно затягивающими производство расследования по истечении сроков давности, права на реабилитацию со всеми вытекающими из данного института правовыми последствиями. По смыслу, следователь (дознаватель) может не успеть провести расследование в полном объеме, и в основе его решения о прекращении уголовного дела не будет содержаться совокупность уличающих либо оправдывающих доказательств [12, с. 202], а только констатироваться факт истечения соответствующих сроков для их сбора.
Выводы и заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод, что изменения в российском уголовно-процессуальном законодательстве, затронувшие расследование после истечения сроков давности, позволяют рассмотреть подход к обеспечению разумного срока уголовного судопроизводства на качественно ином, более высоком уровне. Правоприменители в лице органов предварительного расследования поставлены в жесткие временные рамки, которые не позволят вернуться к появлению жалоб от граждан, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, выразивших желание продолжить расследование в обычном порядке для доказывания своей невиновности на длительность своего неопределенного правового положения по истечении сроков давности. Однако представляется, законодатель упустил из виду, что сторона защиты может использовать введенные нормы, препятствуя производству указанного расследования, чтобы по окончании установленного в законе периода формально получить право на реабилитацию. Если же такой риск допускался, то государство взяло на себя осознанную ответственность за рост числа таких реабилитированных лиц ради обеспечения разумности срока уголовного судопроизводства. Тогда почему на законодательном уровне остались неразрешенными другие, не менее важные вопросы, затрагивающие реализацию конституционных положений по защите прав и интересов потерпевшего по указанным уголовным делам? Прежде всего речь идет о механизме реализации права потерпевшего на компенсацию причиненного ущерба в рассматриваемых случаях прекращения уголовных дел по реабилитирующему основанию по окончании фиксированного периода в зависимости от категории преступления с момента истечения срока давности. Требует понимания и остающаяся безответной на протяжении многих лет позиция законодателя по уголовным делам, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено, а сроки давности привлечения к уголовной ответственности по ним истекли [4, с. 143–144]. Разрешение указанных вопросов требует дальнейшего совершенствования законодательства, ведь назначение уголовного судопроизводства может быть достигнуто только при защите прав обеих сторон.
Список литературы Новое в российском уголовно-процессуальном законодательстве о расследовании преступлений после истечения сроков давности уголовного преследования
- Козловский, П. В. Прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей / П. В. Козловский, Е. И. Земляницин // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2023. – Т. 29, № 2(89). – С. 124-127. – DOIhttps://doi.org/10.24412/1999-625X-2023-289-124-127. – EDN LBXNLD.
- Попова, И. П. Процессуальная форма решения при истечении сроков давности уголовного преследования (истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности) / И. П. Попова // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Иркутск, 24–25 мая 2018 года. Том I. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 254-259. – EDN XUPEUX.
- Шимко, А. М. Проблемы правового регулирования прекращения производства по уголовному делу за истечением сроков давности при отсутствии лица / А. М. Шимко // Теоретико-прикладные вопросы развития досудебного производства по уголовным делам на современном этапе: Сборник статей международной научно-практической конференции: в 2-х томах, Новополоцк, 26–27 сентября 2019 года / Полоцкий государственный университет. Том 2. – Новополоцк: Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»=Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны універсітэт", 2019. – С. 147-153. – EDN VJYPMQ.
- Согоян, В. Л. К вопросу об отказе от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности / В. Л. Согоян // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2023. – № 6(157). – С. 141-145. – EDN ABEKEL.
- Остапенко, Е. В. Обеспечение прав потерпевшего при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с истечением сроков давности / Е. В. Остапенко, В. В. Семенова // Уголовное судопроизводство России и зарубежных государств: проблемы и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 12 ноября 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. – С. 289-293. – EDN RBYMPU.
- Волынская, О. В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и организационно-правовые проблемы: автореферат дис. … докт. юрид. наук // 12.00.09 Волынская Ольга Владимировна, М., 2008. – 54с.
- Перетятько, Н. М. Институт прекращения уголовного дела как объект правового регулирования в системе уголовно-процессуального законодательства / Н. М. Перетятько, А. Е. Федюнин // Актуальные проблемы государства и права. – 2022. – Т. 6, № 1(21). – С. 93-102. – DOIhttps://doi.org/10.20310/2587-9340-2022-6-1-93-102. – EDN WZBBZH.
- Лебедев, Н. Ю. К дискуссии о понятии и значении реабилитации в уголовном судопроизводстве / Н. Ю. Лебедев, А. Л. Снигирев // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – 2022. – № 2(12). – С. 22-27. – EDN QKMIDC.
- Погребной, М.В. Специальные основания ответственности государства за вред, причиненный государственными органами / М.В. Погребной // Российский судья. – 2003. – №8. – С.30-33.
- Глыбина, А.Н. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в уголовном процессе России /А.Н. Глыбина, Ю.К. Якимович. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – 146 с.
- Лютынский, А. М. Некоторые проблемы реабилитации в российском уголовном судопроизводстве / А.М. Лютынский, Р.М. Морозов // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 1(41). – С. 36-43. – EDN MXMUTG.
- Назырова, Н. А. Реализация следователем функции разрешения дела при принятии правового решения о прекращении уголовного дела / Н. А. Назырова // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2023. – № 1(104). – С. 199-208. – DOIhttps://doi.org/10.55001/2312-3184.2023.19.14.017. – EDN OHILZF.