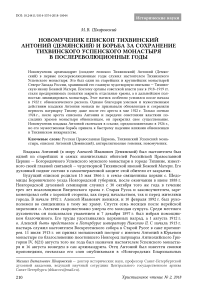Новомученик епископ Тихвинский Антоний (Демянский) и борьба за сохранение Тихвинского Успенского монастыря в послереволюционные годы
Автор: М. В. Шкаровский
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
Новомученик архимандрит (позднее епископ Тихвинский) Антоний (Демянский) в первые послереволюционные годы служил настоятелем Тихвинского Успенского монастыря. Это был один из старейших и крупнейших монастырей Северо-Запада России, хранивший его главную чудотворную святыню — Тихвинскую икону Божией Матери. Поэтому органы советской власти уже в 1918–1919 гг. стали предпринимать попытки закрыть отдельные храмы, а в дальнейшем полностью ликвидировать монастырь. Этот натиск особенно усилился после начала в 1922 г. обновленческого раскола. Однако благодаря умелым и мужественным действиям владыки Антония монахи не признавали обновленцев и сохраняли верность патриарху Тихону даже после его ареста в мае 1922 г. Только осенью 1924 г., после ареста епископа Антония и передачи советскими властями последних храмов монастыря обновленцам, он прекратил свое существование. Новомученик владыка Антоний скончался в ссылке, предположительно в 1926 г., но его мужественная борьба привела к быстрому падению влияния обновленцев в Тихвинском викариатстве.
Русская Православная Церковь, Тихвинский Успенский монастырь, епископ Антоний (Демянский), антирелигиозные гонения, новомученик.
Короткий адрес: https://sciup.org/140223397
IDR: 140223397 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10044
Текст научной статьи Новомученик епископ Тихвинский Антоний (Демянский) и борьба за сохранение Тихвинского Успенского монастыря в послереволюционные годы
Владыка Антоний (в миру Алексей Иванович Демянский) был настоятелем был одной из старейших и самых значительных обителей Российской Православной Церкви — Богородичного Успенского мужского монастыря в городе Тихвине, известного своей главной святыней — чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. Его духовный подвиг состоял в самоотверженной защите этой обители от закрытия.
Будущий епископ родился 15 мая 1866 г. в семье священника церкви с. Шедо-мицы Боровичского уезда Новгородской губернии, после окончания в июне 1888 г. Новгородской духовной семинарии служил с 30 октября того же года в течение трех лет псаломщиком Введенского храма г. Старая Русса и законоучителем, зарекомендовал себя с хорошей стороны, как перед начальством, так и перед жителями города. В начале 1892 г. Алексей Иванович женился, и 10 февраля 1892 г. был рукоположен во священника к тому же храму. Спустя семь месяцев после иерейской хиротонии о. Алексия скоропостижно умерла его молодая супруга. Среди местного духовенства он пользовался уважением и 7 декабря 1897 г. был избран помощником благочинного. Его труды удостаивались церковных наград, а 1 августа 1912 г. о. Алексий быть представлен в Петербурге императору Николаю II. С начала 1913 г. пастырь служил настоятелем Воскресенского собора в Старой Руссе в сане протоиерея. 11 июля 1913 г. он принял монашеский постриг с именем Антоний в Юрьевом монастыре по благословению посетившего Новгород патриарха Антиохийского Григория IV, 8(21) августа того же года был назначен настоятелем Успенского монастыря и 16 августа возведен в сан архимандрита. Отец Антоний был известен своими проповедями, несколько его слов опубликовали в «Новгородских Епархиальных
ведомостях» [Бовкало, 2001, 626]. В 1917–1918 гг. он участвовал в работе Всероссийского Поместного Собора.
В декабре 1918 г. братии Тихвинской Успенской обители впервые пришлось испытать на себе антирелигиозные акции советских властей. В монастырь пришел отряд чекистов во главе с комиссаром И. Федоровым, который на основании постановления губернской Чрезвычайной комиссии провел серию обысков. В келье настоятеля архимандрита Антония были изъяты различные финансовые документы, в том числе приходно-расходная книга за 1918 г.; в помещении казначея реквизировали хранившиеся там рис, сахар, крупу и мыло. 14 декабря комиссар И. Федоров в присутствии представителя образованного в 1918 г. Комитета бедноты монастыря лично провел обыск в келье наместника иеромонаха Клавдия (Воронина), но обнаружил лишь некоторые монастырские документы и частную переписку (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 52, 53, 57 об.).
С начала 1919 г. стремление советских властей «поживиться» за счет имущества обителей особенно усилилось. В это же время дело дошло до реквизиции капиталов Тихвинской Успенской обители. Первоначально, еще в декабре 1918 г., были изъяты процентные бумаги (билеты кредитных учреждений и т. д.) на сумму 75140 рублей (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 56). Затем весь хранившийся в Госбанке капитал обители был перечислен в доход казны, а счет монастыря в банке аннулирован. Все расписки о приеме частных вкладов были проверены и конфискованы вместе с ценными бумагами. Монастырю оставили лишь небольшую сумму наличных денег.
Чтобы спасти церкви монастыря от закрытия и разграбления, верующие должны были образовывать «двадцатку», то есть подать заявление с приложением списка из 20 человек, желающих принять в свое пользование церковное имущество и здания, и зарегистрировать общину. С такой «двадцаткой» как с общественной организацией и заключался договор на аренду инвентаря и помещений. 13 апреля 1919 г. началась запись верующих, желающих вступить в приходскую общину при храмах монастыря, а также взять в свое ведение церковное имущество. В тот же день, 13 апреля, был подписан договор (соглашение) с представителем Тихвинского уездного совета о принятии верующими в «бессрочное» и «бесплатное» пользование девяти храмов и двух часовен Успенского монастыря. При этом договор обязывал прихожан и монахов платить государству налоги, самим производить ремонт зданий, оплачивать отопление, освещение и т. п. (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–3, 28–30).
В мае 1919 г. в уездный совет была в первый раз представлена опись имущества всех храмов обители на 20 листах (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 4–25). Передавая отчеты и различные сведения о монастырском хозяйстве органам советской власти, настоятель архимандрит Антоний фактически сдавал дела монастыря: после передачи документов потребовали и монастырскую печать. Здания монастыря были переданы в ведение уездного жилищного отдела. Ему указали срочно осмотреть все здания, произвести их оценку и сдать в аренду. Теперь насельники обители должны были арендовать собственные здания. Отобрав у монастыря почти все имущество и деньги, власти, казалось, обрекали живущих в нем на голодную смерть, но монахи не покинули родную обитель.
В апреле 1919 г. общее собрание верующих избрало церковно-приходской совет. Начавшаяся 13 апреля 1919 г. запись прихожан продолжалась и в дальнейшем. Так, 3 августа 1921 г., на запрос подотдела ЗАГСа уездного исполкома, приходской совет сообщил, что на тот момент в прихожанах было записано 3757 человек: 1471 мужчина и 2286 женщин (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 32–33).
Так начиналась новая жизнь обители при советской власти. Теперь для проведения любого собрания, крестного хода и т. п. необходимо было подать заявление в отдел управления, указать место, время, цель собрания и получить разрешение на его проведение. Архим. Антоний исполнял все предписания точно и безукоризненно, при этом он оставался человеком, не отказавшимся от веры, и при всех обстоятельствах считал себя настоятелем. Хотя в приходской совет действующих церквей входили прихожане, его основу составляли монахи. За существование своей обители монахам и прихожанам постоянно приходилось вести упорную борьбу.
Так, к лету 1919 г. угроза нависла над монастырской братской трапезной и Кре-стовоздвиженской церковью. 22 мая совет приходской общины при Богородичном Успенском монастыре на своем заседании, заслушав предложение старшего врача Тихвинского военного лазарета № 66 о передаче Крестовоздвиженской церкви и трапезной (составлявшей притвор Покровского храма) под нужды лазарета, постановил обратиться к гражданским и военным властям с предложением не забирать церковь, но согласиться на временное занятие трапезной с условием срочного освобождения после исчезновения надобности. 27 мая приходской совет и о. Антоний обратились в отдел управления уездного исполкома с просьбой оказать поддержку ходатайству об оставлении храмов монастыря для «обслуживания религиозных нужд верующих» (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 26–27). Это ходатайство имело временный успех, однако уже вскоре — в начале 1920-х гг. — были закрыты сразу пять монастырских церквей.
Несмотря на гонения, из гражданской войны Русская Православная Церковь вышла в основе своей несокрушенной. Но уже вскоре после окончания боевых действий стали разрабатываться планы кардинального «решения» проблемы существования религиозных организаций в Советской России. Они по-прежнему расценивались как оппозиционная враждебная сила, к тому же располагавшая значительными материальными ценностями, которые предполагалось изъять. Постепенно появились и планы произвести раскол, создать более покорную церковную организацию.
После первых сообщений о голоде в Поволжье Русская Православная Церковь сразу же откликнулась на эти события. Еще в 1921 г. она создала комитеты для оказания помощи голодающим. Летом 1921 г. архим. Антоний (Демянский) вошел в состав президиума уездного комитета по оказанию помощи и был избран казначеем комитета. К 15 августа 1921 г. братия и прихожане Богородичного Успенского монастыря собрали и пожертвовали в помощь голодающим 1 млн рублей, а в октябре 1921 г. на счет уполномоченного Помгола от о. Антония поступил церковный сбор в размере более 400 тысяч рублей [Бовкало, 2001, 626].
Однако, поняв, что подобная помощь лишь укрепляет авторитет Церкви, советское правительство резко ужесточило свою политику. Весной 1922 г. началась кампания по изъятию церковных ценностей, затронувшая и Успенский монастырь. Стремясь избежать кровопролития, архим. Антоний обратился с воззванием к верующим и принял меры для предотвращения столкновений [Бовкало, Галкин, 1994, 5].
Изъятие церковных ценностей в Успенском монастыре началось 18(31) марта. В этот день уездная комиссия по изъятию церковных ценностей при поддержке вооруженных солдат, в присутствии архим. Антония, реквизировала и вывезла из храмов монастыря различные серебряные предметы общим весом 6 пудов 18 фунтов (около 100 кг), три митры, украшенные жемчугом и цветными камнями, и золотую лампаду весом 15 фунтов с 178 рубинами и 33 бриллиантами, пожертвованную обители в 1807 г. графом Шереметевым. 1 апреля были также изъяты пять Евангелий XIX в. в серебряных позолоченных окладах, два серебряных позолоченных напрестольных креста и серебряная доска с иконописными украшениями (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 34–37).
-
21 марта (3 апреля) были изъяты: золотая риза с драгоценной святыни — чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, весившая 21 фунт, серебряный шарнир, украшенный жемчугом и бриллиантами, а также большой изумруд, пожертвованный императрицей Анной Иоанновной в Успенский собор в 1734 г. (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 38). При этом представители советских властей заставляли архим. Антония собственноручно снимать ризы со святынь. Пытались они воздействовать на настоятеля и по-иному, однако не преуспели ни в том, ни в другом.
В письме к митрополиту Новгородскому Арсению (Стадницкому) от 21 марта (3 апреля) 1922 г. архим. Антоний описал эти трагические события. На следующий день, 4 апреля, были изъяты: серебряная позолоченная одежда (риза) с престола Успенского собора и серебряная позолоченная лампада, общим весом 6 пудов 40 фунтов. 5 апреля из монастырской ризницы вывезли 62 серебряных предмета и т. п. (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 39–43).
-
26 марта (8 апреля) архим. Антоний послал митрополиту Арсению еще одно письмо, в котором описал последующее изъятие церковных ценностей. Однако на этом ограбление монастыря не прекратилось. 6 мая были изъяты 12 серебряных риз, 31 серебряная лампада общим весом 4 пуда 21 фунт и 27 бриллиантов, а 16 мая — 58 других серебряных предметов (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 44, 51). Часть ценностей верующие выкупили. 16 мая прихожане внесли значительное количество пожертвованных ими драгоценных предметов (в основном серебряных столовых приборов), а также серебряных монет на 4815 рублей взамен оставленной утвари (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 45).
Таким образом, всего из Успенского монастыря было вывезено и в основном переплавлено различных церковных предметов общим весом более 20 кг золота и около 500 кг серебра, а также значительное количество драгоценных камней. Изъятие ценностей в монастыре прошло без открытых столкновений с властями, а что при этом творилось в душах прихожан и монахов, хорошо свидетельствуют упомянутые выше письма архим. Антония.
Частично реализовав первую цель антицерковной кампании, власти попытались осуществить и вторую. 12 мая началась организованная советским руководством «революция» в Церкви, породившая ее раскол, смуту среди духовенства и верующих. Вскоре после захвата церковной власти в Череповецкой губернии (куда в тот период входил г. Тихвин) сформированное обновленцами епархиальное управление отправило благочинному Тихвина указание: прекратить при богослужении поминовение патриарха Тихона, все перемещения и назначения священно- и церковнослужителей проводить исключительно через епархиальное управление. Благочинный переслал этот циркуляр архим. Антонию для исполнения. Однако приходской совет храмов Успенского монастыря при участии настоятеля, не желая подчиняться обновленцам, постановил воздержаться от проведения в жизнь циркуляра до получения разъяснений и распоряжений гражданской власти. Отказавшись признать обновленческое епархиальное управление, архим. Антоний первоначально удержал от уклонения в раскол почти весь клир Тихвинского уезда [Бовкало, 2001, 626]. Однако в начале 1923 г. храмы Успенской обители при поддержке советских властей были все-таки частично захвачены обновленцами, при этом прежний приходской совет фактически прекратил существование.
-
27 июня 1923 г. был освобожден из-под ареста патриарх Тихон, после чего началось быстрое падение влияния обновленцев. Осенью 1923 г. в послании патриарху временно исполняющий обязанности управляющего Новгородской епархией епископ Крестецкий Серафим сообщал подробности борьбы о. Антония с раскольниками: «Отец архимандрит преисполнен разнообразного труда на ниве Христовой, соединенного с горестями и терпением, а особенно в последнее время. И, благодаря покровительству Царицы Небесной, как он и сам о сем постоянно свидетельствует, обитель и братия еще до днесь существует. Во все время с первого момента появления обновленчества он заявил себя его противником, и умело отклонился от него, сохраняя от сего и монастырь, и братию. В то время как благочинный г. Тихвина и настоятель Тихвинского собора самолично переписали весь Тихвинский уезд из Новгородской епархии в Череповецкую (обновленческую. — М. Ш. ) архимандрит Антоний публично перед всеми выразил свое несогласие и остался в ведении Новгородской епархии. Из Череповца прибыл уполномоченный епископа-обновленца Иоанна Звездкина и властно приказывал прекратить моление за Новгородскую епархиальную власть и начать молиться за Череповецкого обновленца, но отец архимандрит не подчинился. И когда была объявлена в июне сего [1923] года свобода религиозной регистрации, он умело и спешно ею воспользовался, не имея сведений о сем ни из Новгорода, ни из Москвы. Верующие граждане г. Тихвина со слезами признания пришли к нему
и благодарили за сохранение обители и их самих от обновленщины и из 600 человек сразу образовали общину Древнеапостольской Церкви при объявлении непризнания [обновленческого] собора 1923 г. и обновленчества во всех его видах. Как свидетельствуют граждане Тихвина, благодаря примеру и стойкости отца архимандрита сохранилось правоверие в городе, укрепляется и в уезде» [ББ ПСТГУ].
Действительно, как только появилась легальная возможность — в середине июня 1923 г. (еще до освобождения патриарха Тихона), исключительно по собственной инициативе, архим. Антоний организовал общину «Древнеканонической Церкви при Большом Тихвинском монастыре», не признававшую обновленческое епархиальное управление. 17 июня состоялось учредительное собрание общины, на котором был принят устав общины, выбраны 30 уполномоченных (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 84–84 об.).
Через несколько дней после проведения собрания члены общины послали в отдел управления Череповецкого губисполкома требуемые для ее регистрации документы: устав, список учредителей (в который записалось 622 человека), инвентарную опись (от июня 1923 г.), протокол учредительного собрания, списки уполномоченных, членов президиума и священнослужителей общины. Из 30 уполномоченных четверо были монашествующими, а из семи членов президиума — двое: архим. Антоний и товарищ председателя, казначей общины иеромонах Алексий (Разумеев) (ЦГА СПб. Ф. 8059. Оп. 1. Д. 5. Л. 77, 81–106).