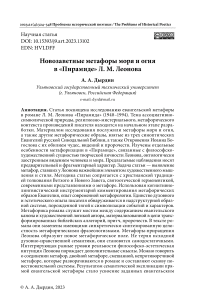Новозаветные метафоры моря и огня в «Пирамиде» Л. М. Леонова
Автор: Дырдин А.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию евангельской метафоры в романе Л. М. Леонова «Пирамида» (1940-1994). Тема ассоциативно-символической природы, религиозно-мистериального, метафорического контекста произведений писателя находится на начальном этапе разработки. Материалом исследования послужили метафоры моря и огня, а также другие метафорические образы, взятые из трех синоптических Евангелий русской Синодальной Библии, а также Откровения Иоанна Богослова с их обилием чудес, видений и пророчеств. Изучены отдельные особенности метафоризации в «Пирамиде», связанные с философско-художественной сущностью творческой личности Леонова, онтологически заостренным видением человека и мира. Предлагаемые наблюдения носят предварительный и фрагментарный характер. Задача статьи - выявление метафор, ставших у Леонова важнейшим элементом художественного мышления и стиля. Методика статьи сопрягается с христианской традицией толкования Ветхого и Нового Завета, святоотеческой герменевтикой, современными представлениями о метафоре. Использован когнитивно-лингвистический инструментарий комментирования метафорических образов Евангелия, опыт современной метафорологии. Единство духовного и эстетического опыта писателя обнаруживается в надструктурной образной системе, порожденной тягой к символизации событий и характеров. Метафорика романа служит мостом между содержанием евангельского канона и художественной логикой автора, материализованной в цепи трансформированных библейских аллегорий, притч, пророчеств. В тексте романа они заменены имеющими синкретически-синтезированную целостность метафорическими фразеологизмами. Метафоры-приращения Леонова образуют новое метафорическое поле. Не теряя исходной духовно-нравственной семантики, они становятся самодостаточными. Интегрирующая разные уровни реальности философско-эстетическая интуиция Леонова порождает дополнительные смыслы. Можно говорить о соединении метафор, двойной метафоре, смешанной, непротиворечивой метафоре, которые разворачиваются в романе и составляют основу повествовательной системы. Результатом семантической экспликации прямой евангельской метафоры стало усвоение заданных евангельским текстом значений. С помощью развернутых метафор и парафраз Леонов означает узловые идеи «Пирамиды». Главная из них - трагические сдвиги национальной судьбы, вызванные отступлением от Православия, от основ русской культурной самобытности. Рассматриваемые в статье метафоры графически выделены в тексте «Пирамиды». Графические акценты в метафорах-словосочетаниях имеют существенное значение для читательского восприятия произведения. Метаморфные образы-архетипы Пути, Корабля, Истины высветили идейно-философские глубины последнего произведения Леонова.
Пирамида, л. леонов, герменевтика, евангельская метафора, новый завет, философско-символическое мышление, метафоры-приращения моря и огня
Короткий адрес: https://sciup.org/147242339
IDR: 147242339 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.13102
Текст научной статьи Новозаветные метафоры моря и огня в «Пирамиде» Л. М. Леонова
«Пирамида» Л. М. Леонова завершает линию философско-религиозных поисков русской литературы XX в. Роман-завещание неоднократно становился объектом литературоведческих, лингвистических, философских исследований. Постепенно изучение жанровой природы, архитектоники и образного языка последней книги Леонова смещается в область взаимодействия литературы и философии, поэтико-семантических штудий. В их центре — темы грехопадения, дьявольского искушения, поисков спасения, библейские сюжеты и образы, транслируемые писателем в символической проекции.
Ныне, три десятилетия спустя после публикации итогового произведения Леонова, в посвященных ему работах доминирует мотивный анализ. Истолкование идейного мира, смысловой сложности образов основано на мотивно-интер-текстуальной методике, представлении о миметическом потенциале культурных традиций и архетипических топосов. «Пирамида» интерпретируется как роман-миф, роман-притча, роман-ракурс. Н. А. Сорокина, предложившая последнюю дефиницию жанра, соотнесла его специфику с открыто выраженным авторском началом, использованием разрядки для выделения слов, обладающих повышенной семантической нагрузкой (см.: [Сорокина: 508]).
Сегодня «Пирамиду» рассматривают с философских позиций. Последнее произведение писателя-мыслителя, по А. А. Воробьеву, «текст глубоко христианский, но как бы "навыворот", своим дерзновением балансирующий на грани еретичества и даже сатанизма» [Воробьев: 162–163].
Леонов принадлежит к ряду отечественных писателей философского склада с интенсивным национальным самосознанием, выразившимся в его идеологии, языке и стиле. Мышление художника, которое определяется здесь как метафорическое, относится, по современной лингвистической классификации (см.: [Чернейко: 40–49]), к герменевтическому типу.
Отправная точка прочтения романа в ракурсе сравнительного подхода — опыт выявления и трактовки значений метафор Нового Завета, которые заняли в образно-семантической структуре романа доминирующее положение.
Леонов, размышляя о преимуществе философски отточенного «д о с т о е в с к о г о творческого метода»2 по сравнению с доходящим до мельчайших подробностей критическим реализмом Толстого, перенимает у Достоевского приемы организации текста3. Об одном из них — было сказано выше. Это стремление графически выделять «своего рода смысловые стяжения в тексте, — именно те слова, которые обязательно должны прочно войти в сознание» [Захаров: 21].
Тема романа, «размером с небо и емкостью эпилога к Апо-калипсису»4, раскрывается через обращение к метафорическому языку Св. Писания. Во фрагменте, опубликованном за десять лет до создания последней редакции «Пирамиды», читаем:
«…для надежного, потустороннего к тому же проникновенья в такую глубь естества и впрямь лучше всего годилась панорамная библейская схема» ( Леонов 1984 : 573).
Леоновым создается философско-мистический роман с развитой системой аллюзий и индивидуально-авторской метафорики. В нем аллегория, реминисценция и метафора выступили средствами ак туализации священных смыслов Библии.
Ведущая идея нашей работы — об исключительной роли введенных автором в текст метафор и метафорических фразеологизмов, воплотивших глубинные смыслы четырех канонических Евангелий.
Попытаемся — в первом приближении — проследить движение метафорической мысли писателя, которое создает образно-символический остов «Пирамиды».
Вот исходные тезисы наших размышлений:
-
1. Пространство романа-наваждения организовано с помощью ценностных семантических доминант — метафор, свидетельствующих о символической природе мышления Леонова.
-
2. Метафоры в тексте «Пирамиды» локализуются одновременно на нескольких уровнях: тексте, дискурсе и контексте.
-
3. Метафора в романе — универсальное хранилище смыслов, средство постижения реальности, характеристики внутреннего мира героев.
Последнюю книгу писателя-философа отличает усиление роли метафоры на фоне других тропов и фигур речи. Для Леонова метафора — метафора-символ, метафора-катахреза — становится способом постижения мира вещественного и трансцендентного. Пространство первого постигается в чувственной форме, второго — в метафизической. Текст «Пирамиды» насыщен эсхатологическими метафорами, заимствованными из Священного Писания. Обратимся к этому феномену идейного содержания и поэтики романа5.
В последней редакции эстетико-философская основа романа, которая в некоторой степени сохраняла преемственность с предыдущим замыслом, изменилась. Главной причиной такого решения послужило усиление исповедального начала, движение текста в сторону «романа-самоопределения»: «Почему же не библейский роман?» — задает вопрос А. Лысов. По его мнению, роман «Пирамида» в новейшей версии так же, как «Братья Карамазовы» Достоевского, «содержит в себе соборный образ Библии от дней творения до патмосского Откровения, пронизан во всех деталях, поворотах темы, символикой, с южетами и идеями вечной книги» [Лысов: 219].
Кратко остановимся на хронологии работы писателя над текстом «Пирамиды».
Творческая история «Пирамиды» сложна и драматична. Реализация замысла затянулась на несколько десятилетий. В домашнем архиве Леонова хранится машинопись первого варианта, начатого накануне Великой Отечественной войны и законченного в конце 1970-х гг. Синхронно шла работа над переделкой «Вора» (редакции 1982, 1990 и 1993 гг.), послевоенными пьесами, «Русским лесом», публицистическими статьями, издаются фрагменты новой версии романа6. Последняя редакция, ставшая канонической, опубликована в двух изданиях: сначала журнальном, затем — в виде двухтомника. В тексте, подготовленном на основе авторизованной машинописи незадолго до смерти писателя7, выразился обострившийся интерес к мистическим сторонам реальности. В частности, это можно заметить по новым вставкам. Одна из них, не вошедшая в опубликованный вариант романа, приведена В. Десятнико-вым8: «После ужина Л. М. продиктовал мне новую вставку о сновидении пастушка после грозы. Работать с Л. М. очень трудно, так как он стремится к максимальной точности в наборе — "мозаике" слов, чтобы в конечном итоге получился хоть и маленький, но законченный фрагмент красочного художественного "панно". В заключение я переписал набело продиктованное мне предложение: "В сновидении ближайшей ночи ритуально неторопливая рука Всевышнего дважды не успевала полностью благословить ребенка на поиск предназначенной ему Истины небесной, ибо тот всякий раз своенравно спешил, пока жив, постичь догматическую, мучительную логику Истины церковной, чтобы лишь в предпоследний миг бытия совместить обе воедино"» [Десятников: 178].
Леонов с детства приобщился к чтению священных книг, хорошо знал Новый Завет. Как вспоминает В. А. Десятников, писатель часто беседовал со священнослужителями, консультировался с ними9. Это свидетельство дает основание говорить о неслучайности обращения писателя к евангельским сюжетам и метафорике.
Попытаемся определить роль евангельских метафор моря (стихии воды) и огня, реминисценций и отсылок к библейскому тексту в романе Леонова.
Евангельские метафоры в «Пирамиде» Леонова: генезис, контексты, истолкование
В литературной критике метафоричность языка писателя воспринимается как непреложное качество его художественного дара. Д. Горбов нашел природную метафору для характеристики стиля раннего Леонова: «…плавная и гибко-извилистая река центральной полосы России, послушно отражающая в своем чистом и прозрачном, но и глубоком потоке все разнообразие прибрежной жизни и изменчивость неба над ней» [Горбов: 169].
В. А. Ковалев, связавший метафорику с «музыкальным» началом композиционной структуры произведений Леонова, замечает: «Эти мотивы — повторяющаяся, варьируемая, проходящая через все произведения мысль-метафора, художественная деталь, подчеркивающая какие-то стороны образа или содержания произведения в целом» [Ковалев: 94].
Выявляя заимствования, скрытые и явные отсылки к тексту Священного Писания, мы ставим задачу раскрыть художественно-эстетическую природу включенных в текст «Пирамиды» метафор, отсылок-аллюзий, реминисценций, метафорических реплик. Постоянное обращение Леонова к темам и мотивам Вечной книги, поэтическим приемам (амплификация, иносказание, инвективы, полисемантизм слова), обусловлено коренными свойствами его стиля. Стиль Леонова — кумулятивный, концентрированный. Созданная в романе аллегоричная система метафор основывается на традиции духовно-религиозного поиска, отражения авторских идей посредством символов. Леонов использует их и как средство объективизации мировоззренческой позиции, и как литературный прием.
Бóльшая часть работ, предметом которых является анализ стиля автора «Пирамиды», направлена на изучение традиционных литературных тропов и фигур речи. Они — основные инструменты истолкования текстов Леонова. Однако генезис леоновской метафорики практически не изучен. Чаще всего метафора в его творчестве рассматривается в общеязыковом статусе. С нашей точки зрения, стиль, структура художественного сознания писателя в их знаково-символической многомерности на этой основе не могут быть поняты в полном объеме.
В работах леоноведов 1980-х — начала 2000-х гг. была заложена перспективная исследовательская интенция: видеть за внешней словесной формой его произведений субстанциональный, символико-философский план.
К традиционным языковым метафорам Леонова впервые обратился А. В. Степанов10. Для него Леонов — «выдающийся лингвист-потебнианец» XX в. «по широкому художественному охвату "внутренней формы" слова» [Степанов: 160].
Ф. Листван отметил присутствие в «Пирамиде» библейского материала. Польский русист указывает на появление в романе образа Христа, ранее не выступавшего в творчестве Леонова (см: [Листван: 98])11.
Вопрос о связи последнего романа Леонова с библейской культурой, сюжетами и образами Св. Писания ставился неоднократно. Приоритетными для нашего исследования являются концепции А. Г. Лысова, В. С. Федорова, Ф. Листвана, которые обосновывают, с разной степенью погружения в проблему, необходимость рассматривать «Пирамиду» в критериях православного миропонимания.
В постижение библейских интертекстов «Пирамиды» немаловажный вклад внесли леоноведы, считающие основой его связей с поэтикой Нового Завета притчевые интенции, романный «мотивный комплекс» (см.: [Задорина]). Как пример осуществления принципа параллелизма комментирует притчу о блудном сыне Л. П. Якимова: «На параллелизме держится онтологический стержень романа — мотив вековечной борьбы Добра и Зла, реализуясь в сюжетных модификациях мифопоэтического рода — блудного сына, сделки с дьяволом, поединка противников, ожившего мертвеца, Апокалипсиса, просвечивая в интертекстуальных деталях запаха серы, вы-вернутости наизнанку» [Якимова: 202].
Жанровое своеобразие романа, по Якимовой, обусловлено интертекстуальной плотностью текста, а сама притча демонстрирует аллюзивно-архетипическую его пронизанность семантикой Библии (см.: [Якимова: 287–288]).
Л. Н. Дарьялова исследует особенности леоновского герменевтического акта, приемы «расширения читательского горизонта», к которым относятся «речевой курсив», библейские и евангелические изречения (см.: [Дарьялова: 63]).
Последнюю книгу писателя-философа отличает усиление роли метафоры на фоне других тропов и фигур речи. Чтобы осмыслить значимость символического и метафорического в тексте романа, рассмотрим отдельные примеры применения метафор. Действенность этого риторического приема подтверждается умением писателя создавать образы с внутренней формой, богатой по духовно-символическому содержанию. Метафорические образы, восходящие к библейскому канону, сближают речь автора-повествователя и его мыслящих персонажей. Между ними есть явная субстантивная связь и, вместе с тем, существует линия остранения, которая создана иронией Леонова по отношению к усилиям романных философов (Никанор, Вадим, о. Матвей, Финогеич, востоковед Филуметьев, режиссер
Сорокин) «уточнить библейскую ситуацию» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 80) «мифом о нынешней верховной смуте» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 51) и при этом:
«…по писанию, с жерновом на шее не утонуть в п у ч и н е м о р с к о й з а с о б л а з н е н и е м а л ы х с и х» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 63).
Леоновым поставлены духовно-нравственные проблемы, разрабатываемые русской религиозной философией. Главные темы «Пирамиды» — отношения между человеком и миром, человеком и Богом, судьба страны как русской православной цивилизации. Важнейший для поэтики Леонова принцип — соответствие отдельных композиционно-речевых частей произведения эсхатологии евангельского текста. Автор не изменяет ему на всем протяжении романа. Многоуровневая романная композиция создается по принципу контрапункта, соединяющего, так же как у Достоевского, внешние и внутренние диалоги.
Лексема «наваждение» (по Далю — «навада», «искушение», «обман чувств»12) введена в подзаголовок «Пирамиды». Став синонимом миража, духовного заблуждения, этот топос раздвинул границы текста. Происходящее «за горизонтом обыденности» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 343) соединяет вещественную реальность с мнимой. Так обнаруживается присутствие в романе иррационального начала, мистериальных смыслов. Наряду с открытием сокровенных тайн мироздания, проекцией духовного содержания, образы-видения устанавливают связь между духовным и физическим в человеческой жизни. В Священном Писании эти моменты знаменовали откровение, блаженное чувство, очищающее сердце от страстей: «Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Подобные фразеологические обороты — средоточия онтологических идей «Книги книг».
Центральные герои «Пирамиды» проходят духовную проверку. Все они поддались ложной галлюцинации, в том числе — о. Матвей, «на судьбе которого построен ключевой миф о нынеш ней верховной смуте» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 50).
В письме родственнику, отставному протопопу Устину Зуеву, он скажет о своей душевной слабости:
«И вот лукавый бес ночной шепчет мне под руку полюбоваться — как причудливо выполняется у нас нагорное пророчество о примате нищих духом в Царстве Божием» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 57).
Лишь Дуня и горбун Алеша, а также ангел Дымков — существо внеземной природы — пройдя через ряд искушений, не поддались дьявольскому соблазну.
В романе постоянны образные параллели с гипнотическим наваждением: «мистический туман» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 310), «бредовое воображенье» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 397). В этих формулах разрыва с реальностью следует видеть метафору дольней жизни, духовного сна13, организованную по принципу сопоставления с евангельским утверждением: «…мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19).
В «Пирамиде» продуктивна метафора призрачности, эфемерности земного человеческого существования, развивающаяся вплоть до финальной сцены.
Все, что происходит в жизни старо-федосеевцев, случается «как бы во исполнение чьего-то тщательного продуманного бесовского замысла» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 38). Сам автор-повествователь лишь на последней странице «Пирамиды» выйдет из этого недужного состояния, опосредованного духовными видениями, испытаниями на крепость веры. Он «мучительно и долго» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 684) освобождается от соблазняющей силы наваждения, возвращаясь в реальность предвоенного времени. Сопутствует этому избавлению от «бесовской прелести» неопределенность как безусловное свойство будущего. Леонов так определил это пугающее ощущение:
«…непонятный, с примесью отчаянья, страх неизвестности, каким сопровождаются все эпохальные выздоровленья — от мечты, от прошлого , от самого себя в том числе» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 684).
Метафора, с точки зрения концептуальной (когнитивной) лингвистики, «не просто перенос значения, троп, средство создания образности текста, а ментальная операция» [Богданова: 135].
У Леонова метафора выступает в качестве средства раскрытия душевных состояний героев и автора-рассказчика. Здесь проявляются зафиксированные М. Л. Новиковой две ее характеристики: особая сочетаемость метафорических словесных конструкций, а также «смысловое и эстетическое "приращение"» [Новикова: 25].
Искушение чудом (ср.: Мф. 4:1–11) входит в роман, открывая единство авторской мысли и евангельского слова. Последовательно используя эмоционально-экспрессивную и эстетическую функции метафоры, Леонов ввел в свой роман метафорические фразеологизмы: «хлеб насущный» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 227), «блаженство мудрых» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 342) и созданные на семантической основе метафорического языка Библии метафоры-приращения: «над бездной бытия» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 307), «жертвовать собой во благо ближнего» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 311) возвращение «сынов Божьих на положенный им нашест» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 310), «по-евангельски кроткий человек» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 311).
Для леоновского образного мышления метафора — метафора-символ, двойная, смешанная метафора (в ней связано несколько образов) — является способом постижения мира вещественного и трансцендентного. Пространство первого — в чувственной форме, второго — в метафизической.
Библейская лексика часто соединяется с авторской, образуя семантически целостный оборот:
«Древняя заповедь сбылась — алчущие насытились, плачущие утешились, кроткие вышли из подвалов и трущоб, чтобы никогда не возвращаться» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 305).
Такие «синтезированные» леоновские фразеологизмы актуализируют изначальные евангельские значения, которыми обрамляется речь имплицитного автора и персонажей. Становясь тропами, входя в состав стилистических фигур, эти метафорические новообразования являются композиционно-речевыми элементами, выполняющими текстообразующую функцию.
Опираясь на память читателя, знакомого с текстом Св. Писания, Леонов выстроил в романе цепь интенсивных метафор, составленную из библейских паремий. Ретроспекциями из Нового Завета намечены сюжетные линии романа, восстанавливается глубинная этическая связь с первоисточниками: Евангелиями и каноническим христианским апокалипсисом — Откровением Иоанна Богослова ( картины конца света в «Пирамиде» напоминают «общеизвестный А п о к а л и п с и с» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 327) ) .
Новозаветный текст может врастать в речь героев. Так, кажущееся несоответствие между фигурой Сталина и евангельским словом расширяет христианский контекст «Пирамиды». Речевой портрет героев создается на скрещении авторского и библейского словесных рядов, которые в равной степени метафоричны. Евангельское понимание слова введено в рассуждения Сталина. Беседуя с ангелом Дымковым, хозяин Кремля пользуется словосочетанием «п р а в е д н о е ц а р с т в о» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 599), вспоминает комментарий семинаристского мудреца-эконома к прологу Евангелия от Иоанна. Идейное содержание речений евангелиста истолковано здесь в духе категорического прагматизма:
«…если в начале времени некое магическое слово зажгло пламень жизни, то оно же, вывернутое наизнанку, способно и угасить ее» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 599).
Занимая иногда несколько десятков страниц текста, авторские сентенции содержат историю поэтапного низведения человечества «из сынов Божиих в толпу, в податную чернь <…>, радиоактивный пар» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 331). В образной ткани повествования Леонова метафора располагает автономным значением, но прежде всего — является главным компонентом изображения человеческих характеров и судеб, тесно переплетенных с исторической жизнью России и современностью.
Метафоры моря и огня в «Пирамиде» Леонова: новозаветные источники и приращение смыслов
Сюжет романа построен на предвоенных событиях, совершающихся на окраине Москвы, где располагается Старо-Федосеевский некрополь с древним храмом. Параллельно развернута мистическая ситуация. Все, что происходит с героями и автором-повествователем, отображено в двумерном пространстве текста — реальном и мистериальном. В этом месте следует учесть эволюцию поэтического языка в общих границах мифа, символа и метафоры14.
Изоморфизм метафоры и мифа — существенный симптом авторского стиля Леонова. Для раскрытия сути событий, имеющих метафизический подтекст, необходимо философско-символическое толкование.
С первых страниц в повествование входит метафора церкви-корабля:
«В воображении моем косяком вытянутая на восток, обитель мертвых удивительно походила на корабль перед уходом в невозвратное плаванье. Все было готово к отплытию: провожатые давно разошлись, пассажиры мирно почивали по каютам. Стая предзимнего воронья шумно кружила над погостом, устраиваясь на ночлег, словно ветер иной, запредельной непогоды клокотал в черных рваных парусах. И уже на паперти опознанный отрывок церковного напева отозвался во мне гулом целительных детских воспоминаний, и не было сил сопротивляться их властному зову» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 8–9).
Сравнение храма с кораблем развернуто в картину, созданную по образцу знакомых по русской литературе сцен духовного единства участников богослужения:
«Всенощная подходила к концу, и близился тот умиротворяющий момент, когда корабельщик в алтаре поручает Всевышнему довести утлое суденышко на вечное пристанище вскрай моря» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 9).
Показывая внутреннее состояние немногочисленных молящихся, Леонов завершает этот эпизод реминисценцией, отсылающей к блоковскому стихотворению. Апостолы и патриархи, словно сошедшие с фресок, показаны как участники всенощной:
«Апостолов и патриархов на фресках виднелось больше, чем молившихся внизу понурых богомолок. Теснимые плесенью праведники на верхних ярусах по частям покидали обреченную обитель, <…> вслушивались в доносившийся к ним с левого клироса чистый, глухим стариковским дребезжаньем сопровождаемый, девичий дисканток, потому лишь на той серебряной ниточке и удерживался весь корабль у причала» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 9).
Тревожная тишина, наступившая в обители Лоскутовых накануне драматических происшествий, случившихся позднее в семье бывшего православного батюшки, соотносится не только с настоящим временем. Привлекается и евангельское сравнение:
«И правда, в сравнении с тем, что творилось на Руси, даже с учетом незаживаемой раны Лоскутовых, тишина установилась в старо-федосеевском некрополе, как на дне моря житейского» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 60).
По ходу развития сюжета Леонов несколько раз будет возвращаться к метафоризации морской лексики, дополнять первоначальные смыслы образов водной стихии оборотами «корабль мертвых», «море вечности», «старо-федосеевский причал» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 397–398).
«Морские» метафоры «Пирамиды» вариативны. Они — воплощение зыбкости, неустойчивости человеческого бытия. Метафорика, основанная на концептах «море» и «океан», главным образом, заимствуется писателем из Библии. Леонов вводит в роман и историософские метафоры, построенные на природных аналогиях. Исторический процесс, по выражению Вадима Лоскутова, заключается «в нормальном чередовании приливов и отливов» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 148).
Т. М. Вахитова, характеризуя присутствие метафор воды в материальном мире и в философских диалогах героев Леонова, пишет о теологическом «соучастии» природы в грехопадении и спасении человека. В «Пирамиде» море метафорически обозначило первооснову жизни. Будучи частью природы, вода обладает магическими свойствами: «Вода может быть предметом чудотворения. <…> В этом море есть и библейские воды потопа, и реальные водные потоки не только России, но и других стран» [Вахитова: 80–81].
Не в меньшей степени насыщена евангельской метафорикой вторая книга «Пирамиды». Размышляя о русской истории, автор отталкивается от метафоры «корабль-государство». Так будет создан один из самых запоминающихся образов романа — образ России-ковчега. Леонов осмысливает реалии исторического пути России в метафизическом измерении, привлекая интуицию, соединенную с возможностями герменевтического мышления. Раскрывается механизм порождения образов, определяемый природой самой метафоры, тесно связанной символическим в и́ дением мира:
«При очевидном неуменье ума постичь загадку, снова на помощь призывается иероглиф образа, в нем ключ к непосильному, с уймой неизвестных, уравнению…» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 80).
Это высказывание с особой внутренней формой, в которой значение отдельных слов приобретает новый, добавочный, смысл. На этой же основе строится сравнение России с рекой. Вот это место из диалога героев-мыслителей «Пирамиды», Вадима и Никанора, где высказана твердая вера в историческую будущность страны:
«А что касается России, то как бы ни обернулось с ней, она подобно всякой древней реке — то зажатая в скалистых берегах, то вырвавшись на простор из теснины, все так же, виясь и самобытно сверкая на солнышке, будет вливаться в тот же Океан бытия…» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 144–145).
Трудно понять смысл леоновской фразы вне метафоры. В особенности значим этот вывод, когда мы переходим к самым важным — духовно-религиозным аспектам леоновского иносказательного стиля.
Семантическая родственность языка «Пирамиды» с новозаветной метафорикой удостоверяется тем, что через авторские фразовые новации просвечивают исконные смыслы священных образов. В частности, встраиваемые в речь Филуметьева «слова с церковным звучанием» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 225) раскрывают причину «разрыва русского Бога с Россией». Не случайно в качестве посредника в этом споре неофита со старым востоковедом привлечен Достоевский:
«— По смыслу притчи Достоевского о Великом Инквизиторе это Россия изгнала Иисуса из страны, тем самым обрекая себя на долгое и междоусобное безумие» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 226), — изрекает Вадим.
Старший из двух братьев Лоскутовых, высказывая мысль о том, что Сын Божий отринут миром (т. е. всеми людьми, населяющими землю), отказывает современникам в чувстве любви и милосердия. Подтекст этой реплики выявляется в комментарии повествователя с искусно включенной в него цитатой из Ф. Тютчева:
«Вадим, видимо, как попович, стремящийся сроднить социализм с христианством, утверждал, что изгоняемый Христос ни за что не покинул бы, не оставил в беде возлюбленную страну, которую, по слову поэта, в рабской ризе из края в край исходил, благословляя» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 226).
Леонов представляет человека и мир не только в эмпирическом, но и в метафизическом замере, привлекая интуицию, связанную с возможностями герменевтического мышления. Духовнореальное в романе переплетено с событиями повседневности. Леонов остается причастным как первому, так и второму.
Автор «Пирамиды» подчиняет изображаемое главной эстетической цели:
«…закрепить <…> встречи, разговоры с собой наедине, всякого рода о т к р о в е н и я — все это быстротекучее, ускользающее чудо бытия» ( Леонов 1984 : 551).
Новозаветная метафора может создавать новый контекст. Используя евангельский фразеологизм «хлеб насущный» (Мф. 6:11), Леонов вложил в речь героя одно из своих первостепенных идейно-творческих убеждений:
«…художник и не в ладах иногда со своим временем, за исключением грозных периодов истории, когда в условиях всеобщей непогоды жизнь во всех разделах приобретает гнетущую одинаковость и пропадают благотворные противоречия его со средой, составляющие как бы диалог народа с самим собою о вещах важнее хлеба насущного, то есть национальное мышление» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 454).
Писатель концентрирует метафорические фразеологизмы в авторском дискурсе, независимо от того, каким образом они используются: в прямом виде, как многоступенчатая метафора, или изобретены писателем. Матвей Лоскутов, например, осторожен в пересказе религиозных заповедей. Как сказано в авторском комментарии:
«Примечательно, что из опасенья е д и н о г о о т м а л ы х с и х ввесть в соблазн утешительной своей ересью, ставшей его вероисповеданьем, о. Матвей ограничился кратчайшим изложением древнего догмата как высшей истины без земных доказательств, лишающих ее тайны и святости» ( Леонов 1994 ; кн. 1: 390).
В речь Вадима включено множество подобных словесных оборотов:
«Законно предположить, что как раз из помянутой <…> среды <…> станут отныне все чаще возникать свирепые апостолы справедливейшего, до полной биологической нивелировки доведенного равенства…» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 104).
Из его слов следует, что истоки национальной судьбы русского народа надо искать в его нравственном строе:
«…действительно поведение наше аккуратно согласуется с евангельской догмой… <…> "Нет выше15 т о я любви, е щ е16 кто положит душу свою з а д р у г и с в о я"» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 126).
Мировидческая позиция писателя воплощается в системе метафорических репрезентаций. Отправные поэтологические координаты Леонова видятся в творческом синтезе не только «гуманистической космогонии как концепции оптимально справедливого мироустройства» [Зайцев: 92], но и истории мировой культуры и литературных традиций.
Метафоричность текста итогового леоновского произведения обусловлена самой природой метафоры, сущность которой определяет символическое ви́ дение мира. На почве традиционных метафор создается высказывание с яркой внутренней формой, в котором значение отдельных слов приобретает новый, приращенный смысл.
В «Пирамиде» воссоздается трагедия двойственного бытия человека в мире. Мысль писателя питает идея Царства Божьего, наступлению которого предшествует огненная жатва (см.: Мф. 13:24–43), очищение огнем (см.: [Непомнящих: 59–69]), выступившее в закатном произведении Леонова в качестве одной из концептуальных метафор.
Символика огня в Новом Завете несет в себе не только воодушевляющее значение17. Чаще всего с огненной стихией связана разрушительная сила, которая карает нечестивых. В огне Судного дня горят падшие ангелы (см.: Мф. 25:41), в огненное озеро будет низвергнут дьявол (см.: Откр. 20:10), соблазненные им народы пожирает небесный Огонь (см.: Откр. 20:9).
Повествователь в «Пирамиде» становится соучастником происходящего, разделяя судьбу старо-федосеевской обители, отданной «на перемол огню» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 684). Восстанавливая в своем закатном романе евангельские смыслы огня, Леонов сохранил отблески «огнепальных» образов. В финале «Пирамиды» искры от костра, в котором сгорит оставшийся от церкви «древесный хлам», опадают пеплом «на просторную окрестность по ту сторону поверженного наземь Старо-Федосеева», на «подставленную ладонь» рассказчика-погорельца, охваченного «непонятным, с примесью отчаянья страхом» ( Леонов 1994 ; кн. 2: 684).
Одно из слагаемых, обнаруживающих нравственно-духовную глубину романа Леонова, — его образно-символический язык, который ориентирован на поэтику и смысловую неисчерпаемость метафорических речевых оборотов Нового Завета.
Заключение
Рассмотрение роли и места евангельских метафор моря и огня в романном пространстве высветило их идейно-художественную многомерность. Мыслительная ткань «Пирамиды» насыщается словообразами, перенесенными из священного текста (преимущественно из Евангелий от Матфея, Луки, Иоанна, Откровения Иоанна Богослова с их ярко выраженными эсхатологическими идеями и пафосом).
Автор «Пирамиды» создал неоднородный, диалогический тип текста. Леоновым выстроена цепь симметричных словесных структур, основанных на ассоциативных связях, на контаминации прямых цитат из Священного Писания с высказываниями повествователя и героев.
Метафоризация играет ключевую роль в создании двух параллельных реальностей романа. Это осознанный художественный прием, средство порождения философских смыслов произведения. Через повторы «строгих» новозаветных метафор и развитие их значений Леонов выстраивает внутренний, духовный сюжет своего литературного завещания. Метаморфные новозаветные образы используются писателем в качестве исходного начала структурирования собственной мысли.
Метафора у Леонова — это не только фигура речи, но и в значительно большей степени способ образного мышления, «ядер-ный» элемент символико-реалистического художественного метода. Метафоры, имеющие своим источником Священное Писание Нового Завета, явились универсальным способом построения авторской модели мироустройства, воздействовали на язык и стиль романа. Леонов применяет метафорические перифразы, отсылки-аллюзии, которыми в большинстве случаев замещается прямое цитирование новозаветного текста.
Новозаветная метафора — императивный компонент образно-символического языка романа. Писатель-философ сблизил идейно-художественный мир произведения с сакральными смыслами Священного Писания. Этот принятый по национальной литературной традиции источник творчества являет собой идейную основу эстетики писателя.
Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2021. Вып. 8. С. 96–108 [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2021/133.pdf (03.08.2023).
Список литературы Новозаветные метафоры моря и огня в «Пирамиде» Л. М. Леонова
- Богданова Е. С. Метафора в художественном тексте: функции, восприятие, интерпретация // Вестник РГУ им. С. А. Есенина. 2016. № 3 (52). C. 134–145.
- Вахитова Т. М. Природные стихии в творчестве Леонида Леонова // Русская литература. 2005. № 3. С. 73–90.
- Воробьев А. А. Философские возможности советской литературы: поздний Леонов // Вопросы философии. 2019 Вып. 6. С. 159–166 [Электронный ресурс]. URL: https://ras.jes.su/vphil/s004287440005349-8-1 (01.08.2023). DOI: 10.31857/S00428744005349-8
- Горбов Д. Поиски Галатеи. М.: Федерация, 1929 300 с.
- Дарьялова Л. Герменевтика художественного моделирования и интертекст в романе Л. Леонова «Пирамида» // Слово.ру. Балтийский акцент. Калининград: Изд-во Балтийского гос. ун-та им. Канта, 2013. № 1. С. 59–66.
- Десятников В. Дневник Русского: в 5 т. М.; Сергиев Посад: Галерея Владимира Десятникова: Историко-культурный центр «Маковец», 2013. Т. 5. 429 с.
- Дырдин А. А. Проза Леонида Леонова: метафизика мысли. М.: Издательский Дом «СИНЕРГИЯ», 2012. 294 с.
- 8 Задорина А. О. Мотивный комплекс, восходящий к текстам священного писания, в романе Л. М. Леонова «Пирамида»: дис. … канд. филол. наук. Красноярск, 2012. 176 с.
- Зайцев Н. И. Русский гений: «Русская идея» в поэтологии Леонида Леонова // Наследие Л. М. Леонова и судьбы русской литературы: мат-лы VII Междунар. науч. конф. / отв. ред. А. А. Дырдин. Ульяновск: Изд-во Ульяновского тех. ун-та, 2010. С. 85–96.
- Захаров В. Н. Слово и курсив в «Преступлении и наказании» // Русская речь. 1979. № 4. С. 21–27.
- Здольников В. В. Леонов и Достоевский: к вопросу о преемственности традиций // Ученые записки УО ВГУ им. П. М. Машерова. Витебск: Изд-во Витебского гос. ун-та, 2008 Т. 7. С. 148–161.
- Иванов B. B. О евангельском смысле метафоры сна в оде А. С. Пушкина «Пророк» и романах Ф. М. Достоевского «Преступление и Наказание» и «Идиот» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001 Вып. 6. С. 347–360 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2633 (01.08.2023). DOI: 10.15393.j9.art.2001.2633
- Ковалев В. А. Этюды о Леониде Леонове. М.: Современник, 1974. 293 с.
- Кошарная С. А. Миф как метафора // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2020 Т. 11. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://sfk-mn.ru/PDF/30FLSK320.pdf (03.08.2023).
- Листван Ф. Библия в романе Леонида Леонова «Пирамида» // Родное и вселенское: эстетика и художественные искания русской литературы XIX — начала XXI века: сб. науч. тр. / cост., отв. ред. А. А. Дырдин.Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2021 Вып. 8. С. 96–108 [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ulstu.ru/venec/disk/2021/133.pdf (03.08.2023).
- Лысов А. Г. Последний автограф («Пирамида» как роман-самоопределение) // Роман Л. Леонова «Пирамида»: проблема мирооправдания / отв. ред. Т. М. Вахитова, В. П. Муромский. СПб.: Наука, 2004. С. 209–227.
- Непомнящих Н. А. Мотивы русской литературы в творчестве Л. М. Леонова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. 177 с.
- Новикова М. Л. Метафора и текст // Русская речь. 1982. № 4. С. 25–30.
- Сорокина Н. В. К методологии типологического анализа леоновской романистики // Вестник ТГУ. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов: Изд-во ТамГУ, 2006. Вып. 4 (44). С. 507–509.
- Степанов А. В. Метафоры Леонида Леонова: к проблеме образного строя мышления // Век Леонида Леонова: проблемы творчества. Воспоминания. М.: ИМЛИ РАН, 2001. С. 155–161.
- Чернейко Л. О. Языковая метафора и метафорическое мышление // Язык, сознание, коммуникация. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, МАКС Пресс, 2021. Вып. 63. С. 40–61. DOI: 10.29003/m2524.lmc2021-63/40-61
- Якимова Л. П. Поэтика русской литературы в семиотическом освещении. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2022. 298 с.