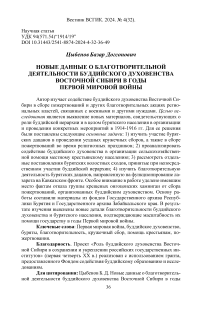Новые данные о благотворительной деятельности буддийского духовенства Восточной Сибири в годы Первой мировой войны
Автор: Цыбенов Б.Д.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 (32), 2024 года.
Бесплатный доступ
Автор изучает содействие буддийского духовенства Восточной Сибири в сборе пожертвований и других благотворительных акциях региональных властей, связанных с военными и другими нуждами. Целью исследования является выявление новых материалов, свидетельствующих о роли буддийской иерархии и в целом бурятского населения в организации и проведении конкретных мероприятий в 1914-1916 гг. Для ее решения были поставлены следующие основные задачи: 1) изучить участие бурятских дацанов в проведении уездных кружечных сборов, а также в сборе пожертвований во время религиозных праздников; 2) проанализировать содействие буддийского духовенства в организации сельскохозяйственной помощи местному крестьянскому населению; 3) рассмотреть отдельные постановления бурятских волостных сходов, принятые при непосредственном участии буддийской иерархии; 4) изучить благотворительную деятельность бурятских дацанов, направленную на функционирование лазарета на Кавказском фронте. Особое внимание в работе уделено имевшим место фактам отказа группы крещеных онгоцонских хамниган от сбора пожертвований, организованных буддийским духовенством. Основу работы составили материалы из фондов Государственного архива Республики Бурятия и Государственного архива Забайкальского края. В результате изучения выяснены новые детали благотворительности буддийского духовенства и бурятского населения, подтверждающие масштабность их помощи государству в годы Первой мировой войны.
Первая мировая война, буддийское духовенство, буряты, благотворительность, кружечный сбор, помощь крестьянам, пожертвования
Короткий адрес: https://sciup.org/170207897
IDR: 170207897 | УДК: 94(571.54)“1914/19” | DOI: 10.31443/2541-8874-2024-4-32-36-49
Текст научной статьи Новые данные о благотворительной деятельности буддийского духовенства Восточной Сибири в годы Первой мировой войны
Введение. Благотворительная деятельность буддийского духовенства Восточной Сибири и бурятского общества в годы Первой мировой войны достаточно хорошо изучена отечественными специалистами, в первую очередь, бурятскими историками, краеведами. В то же время продолжается введение в научный оборот новых архивных документов, указывающих на неизвестные ранее детали многоаспектной помощи армии и тылу. В настоящей работе мы рассматриваем некоторые актуальные вопросы по исследуемой проблематике, включая взаимодействие буддийского духовенства с местными властями по организации различных видов пожертвований, участие буддийской иерархии в подготовке документов, статистические и другие сведения о помощи фронтовым лазаретам, взаимоотношения с группой он-гоцонских хамниган, исповедовавших православие.
Материалы и методы исследования. Источниками исследования явились материалы из фонда 84 Государственного архива Республики Бурятия, фондов 12 и 13 Государственного архива Забайкальского края. Они представляют собой протоколы различных совещаний, доклады волостных правлений, приговоры волостных сходов, приказы военного губернатора Забайкальской области и др. Эти документы дополнены в ряде случаев сведениями из работ бурятских историков. В подготовке статьи использованы сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы научного исследования. Работа состоит из нескольких разделов, посвященных конкретным вопросам по исследуемой тематике.
Участие дацанов Селенгин-ского уезда в кружечном сборе в октябре 1914 г. Большую роль в сборе пожертвований на нужды войны играли местные власти, взаимодействовавшие с буддийским духовенством Восточной Сибири. Так, 7 октября 1914 г. Селенгин-ский уездный начальник известил Пандито Хамбо-ламу о предстоящем кружечном сборе в дацанах [1, с. 62]. На следующий день, 8 октября 1914 г., состоялось заседание Селенгинского уездного комитета по организации сбора пожертвований на военный воздушный флот. В нем приняли участие исполняющий обязанности Селенгинского уездного начальника А.Н.
Несмелов, его помощник И.В. Старков, городской староста М.С. Торгашин, протоиерей Д. Малков, инспектор Селенгинского училища И.П. Воскобойников, купцы В.А. Малыгин, М.А. Лушников, дьякон И. Носырев, учительница А.Г. Пояркова, уездный врач Е.Л. Снови-дов и др. На заседании были зачитаны циркулярные предложения областного комитета об организации и устройстве однодневного сбора на воздушный флот. Уездный комитет постановил: учредить в уезде участковые комитеты в следующих местах: 1) в Чикойской, Закаменской, Сартольско-Армак-ской и Кударобурятской волостях под председательством волостных старшин и при участии членов, в числе не менее трех лиц, известных обществу своей хорошей деятельностью и репутацией; 2) в станицах Аракиретской, Харьяской и Янга-жинской под председательством станичных атаманов и также при участии членов не менее трех человек в каждой; 3) в волостях: Ивол-гинской, Кабанской, Торейской, Троицкой, Турунтаевской, Посольской, Кударинской и Батуринской [2, л. 58].
На этом заседании было решено привлечь к кружечному сбору ширетуев бурятских дацанов уезда: Цонгольского, Джидин-ского, Ацайского, Загустайского, Сартульского, Гэгэтуйского, Иче-туйского, Бултумурского, Араки-ретского, Иройского и Янгажин-ского [2, л. 58-59]. Очевидно, ши-ретуи являлись членами комитета по сбору пожертвований. Предполагалось также привлекать к 38
мероприятию и штатных лам, заслуживающих своею благотворительностью доверие прихожан [2, л. 59]. Уездный комитет также постановил просить Пандито Хамбо-ламу Д.-Д. Итигэлова о производстве такого же сбора в Гусиноозерском (Тамчинском) дацане. Предполагалось также изготовить на средства комитета тридцать кружек по цене 35 коп. за штуку. Из Селенгинска должны были направить в участковые комитеты значки для жертвователей и брошюры. Сохранилось письмо, направленное председателем Се-ленгинского уездного комитета ширетую Ацайского дацана, в котором говорилось: «Прошу Вас о производстве в вверенном Вам дацане сбора на воздушный флот. Кружка для сбора и значки для выдачи жертвователям будут высланы Вам в скором времени. По окончании сбора кружку не вскрывая прислать мне с нарочным не позднее 26 октября чрез ближайшее волостное или станичное правление. Октября 10 дня 1914 г. [2, л. 58 об.]. Очевидно, такие циркуляры о проведении кружечного сбора были направлены и в другие дацаны Селенгинского уезда, в целом всей этнической Бурятии. Известно, что 19 октября 1914 г. сбор добровольных пожертвований на нужды воздушного военного флота проводился в Ойбонтовском и Жаргалантийском булуках Хорин-ского аймака Верхнеудинского уезда, 30-31 октября 1914 г. – на волостном сходе в Галзотской инородческой волости было принято решение о сборе пожертвований на военные нужды при участии духовенства Анинского дацана [3, с. 120].
Подобные кружечные сборы продолжались и в последующие годы Первой мировой войны, о чем свидетельствует письмо председателя Селенгинской уездной комиссии Забайкальского отделения Комитета Великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. Оно датировано 12 апреля 1915 г. В нем кратко даны указания: «Ширетую Ацайского дацана. С просьбой об исполнении. По окончании сбора кружку не распечатывая послать в г. Селенгинск с надежным нарочным чрез ближайшее волостное или станичное правление. При этом посылается одна кружка за № 39 и образчик пучка-колоса» [2, л. 61].
Известно, что осенью 1916 г. Комитет Великой княгини Татьяны Николаевны начал особый сбор под названием «Ковш зерна нового урожая», и население Агинской инородческой волости приняло решение внести пожертвования мясной продукцией [4, с. 131-132].
Таким образом, архивные документы помогают проследить детали кружечного сбора, его организацию; лиц, принимавших участие в мероприятии. Инициатива проведения подобных сборов исходила от региональных властей и была поддержана буддийским духовенством Восточной Сибири.
Участие ширетуев дацанов в волостных сходах и предложение о санаторном лечении раненых 39
офицеров (ноябрь 1914 г.).
В приговоре Кубдутского волостного схода № 1 от 5 ноября 1914 г., прошедшем в с. СосновоОзерское в присутствии ширетуя Эгитуйского [в тексте – Игитуев-ского – авт.] дацана Д. Зодбоева, штатного ламы Эгитуйского дацана Нанзата Зодбоева и булучных старост, отмечено, что «слушали: предложение ширетуя дацана Зод-боева относительно оказания помощи на нужды войны. Обсудив сей вопрос и сочувствуя предложению сим единогласно постановили: произвести добровольные пожертвования на военные нужды и помощи больным и раненым воинам, а также семьям лиц, призванных на действительную службу по мобилизации 1914 г.» [5, л. 36]. Было внесено 11 предложений. Как указано выше, вероятно, большую роль в их составлении сыграло духовенство Эгитуйского дацана. Эти предложения в том или ином виде встречаются и в постановлениях других волостных сходов бурят. Учитывая важность предложений для изучаемой тематики, представим отдельно все 11 пунктов: 1) сбор добровольных пожертвований должен производиться через булучных старост при участии штатных лам и почетных инородцев, по подписным листам, приглашая население булучных обществ вносить на военные нужды деньгами или скотом соответственно имущественной состоятельности жертвователя, но по расчету не меньше 2 руб. с рабочей души [5, л. 36]; 2) поступающие пожертвования скотом и другими предметами обращать в деньги путем продажи их по соглашению булучных старост с жертвователями, а в затруднительных случаях с одобрения надлежащего волостного правления; 3) предложить булучным старостам направлять все поступающие пожертвования в волостное правление вместе со списком жертвователей; 4) поступающие в волостное правление пожертвования распределять следующим образом: 10% отчислять на нужды воздушного флота, 10% в пользу Красного Креста, 40% на организацию помощи семьям лиц, призванных на действительную службу по мобилизации текущего года и 40% в распоряжение Пандито Хамбо-ламы Буддийского духовенства Восточной Сибири в целях устройства в Петрограде Бурятского лазарета для больных и раненых воинов; 5) из состава 40% собранных денег, отчисленных на помощь семьям призванных по мобилизации, считать все суммы, внесенные бурятским населением в общественные организации, помощи семьям призванных на войну, а также и передаваемые на местах для непосредственно удовлетворения нужд семейств, призванных [5, л. 36 об.]; 6) для надлежащей организации сбора пожертвований и скорейшего устройства в Петрограде Бурятского лазарета просить Пандито Хамбо-ламу организовать под своим председательством особый комитет в составе ширетуев подведомственных ему дацанов и должностных лиц инородческих волостей и станиц, и особо приглашенных им лиц из бурятской 40
интеллигенции; 7) просить Пан-дито Хамбо-ламу в качестве председателя означенного комитета по вопросу об организации сбора пожертвований на военные нужды, а также об устройстве в Петрограде Бурятского лазарета для больных и раненых воинов войти в сношение с общественными деятелями из среды иркутских бурят, привлекая их к устройству одного общего лазарета имени всего бурятского народа; 8) по вопросу об организации Бурятского лазарета в Петрограде просить Пандито Хамбо-ламу войти в сношение с членами строительного комитета по возведению в Петрограде буддийского храма и с депутатами Забайкальской области и Иркутской губернии гг. Волковым и Маньковым [речь идет о депутате Государственной Думы от Забайкальской области Н.К. Волкове и депутате Государственной Думы от Иркутской губернии И.Н. Манькове — авт.], а по вопросу о представлении под Бурятский лазарет помещения просить Пандито Хамбо-ламу войти в сношение с Цаннит-Хамбо Агваном Доржиевым; [5, л. 37]. 9) определить число кроватей в Бурятском лазарете и установлении всех сделанных расходов, а равно производство последних предоставить комитету под председательством Пандито Хамбо-ламы; 10) просить Пандито Хамбо-ламу возбудить перед местной администрацией вопрос о предоставлении ему права непосредственного созыва членов означенного в пункт «в» настоящего приговора комитета для обсуждения и выражения вопросов, возникающих в связи с деятельностью комитета; 11) выразили желание содержать при Эги-туйском дацане безвозмездно до 10 лиц офицеров, по выписке их из лазаретов, для дальнейшего поправления их здоровья в летнее время на вольном воздухе, пользуясь минеральными водами, кумысом и пр. [5, л. 37 об.].
Некоторые предложения, включая последний 11-й пункт, упоминаются в телеграмме, направленной от имени Пандито Хамбо-ламы военному губернатору Забайкальской области (принята 21 ноября 1915 г.): «Наше духовенство население вашему призыву всюду постановили приговорами жертвовать не менее 2 руб. податной души распределением 10 % воздушный флот 10 % Красный Крест 40 % семьям призванных 40 % мое распоряжение для устройства специального бурятского лазарета Петрограде кроме того готовить тепловые вещи предполагает устроить некоторых местах временные летние санатории для выздоравливающих офицеров полагаю общей сложности пожертвование будет солидное» [6, л. 43-45; 7, с. 247]. В телеграмме говорится также о ведении переговоров об организации бурятского лазарета в Петрограде, возможном сборе пожертвований среди бурятского населения на создание Забайкальского лазарета.
О пожертвованиях бурятских дацанов и волостных правлений Верхнеудинского уезда на лазарет на Кавказском фронте в декабре 1914 г. Буряты понимали всю серьезность военного времени, благодаря своевременному информированию дацанов и администрации прихожане были в курсе тех или иных событий на фронтах Первой мировой войны, сборах пожертвований на нужды семей мобилизованных крестьян, раненых и больных воинов. О патриотическом настрое бурятского населения свидетельствует приговор волостного схода в улусе Цолга от 25 февраля 1915 г.: «…наша Родина втянута в эту кровавую войну помимо своей воли и нам бурятам подлежит оглянуться на себя, сопоставить свое положение, с положением этих несчастных наших братьев и организовать сборы пожертвований везде и всюду, несмотря на тяжелое и пошатнувшееся от суровой зимы положение нашего хозяйства всеми силами откликнуться на вышеприведенный призыв и произвести с 1 марта сего года добровольный сбор пожертвований…» [5, л. 122-123]. Из текста документа можно понять, что бурятские скотоводческие хозяйства, очевидно, сами с трудом пережили зиму и бескормицу, но тем не менее, они были полны решимости оказать помощь пострадавшим от войны.
В декабре 1914 г. были собраны пожертвования от бурятского населения Верхнеудинского уезда на организацию и посылку от населения Забайкальской области лазарета в действующую армию на Кавказе. В списке жертвователей указаны настоятели бурятских дацанов уезда: ширетуй Кудунского дацана – 154 руб. 50 коп. (дата внесения – 10 декабря 1914 г.), Че-санского дацана – 25 руб. (23 декабря 1914 г.), Тугно-Галтайского дацана – 50 руб. 26 коп. (23 декабря 1914 г.), Цолгинского дацана – 25 руб. (24 декабря 1914 г.), Анин-ского дацана Доржи Шагдаров – 56 руб. 65 коп. (29 декабря 1914 г.), Эгитуйского дацана Зодбоев – 100 руб. (30 декабря 1914 г.) [5, л. 132]. По 900 руб. сдали также Ходай-ское, Барун-Харганатское, Харга-натское, Галзотское инородческие волостные правления; 450 руб. – Гочитское инородческое волостное правление [5, л. 132].
Некоторые жертвователи выражали желание присвоить койкам подвижного лазарета № 4 Красного Креста, отправленного на Закавказский театр войны от населения Забайкальской области, свои названия. Поэтому согласно приказу военного губернатора Забайкальской области от 16 января 1915 г., койке № 7 подвижного лазарета присваивалось название «ламай-ского духовенства Гусиноозерского дацана», койкам с № 8 по 17 – имени «забайкальских бурят», № 18 – «бурят Барун-Харганатской волости»; № 21 – «бурят Харганат-ской волости»; № 22 – «бурят Аца-гатского дацана Ходайской инородческой волости», койкам № 2426 – «баргузинских бурят», № 27 – «Барун-Харганатской инородческой волости при участии Цолгин-ской таковой же», № 31 – «бурят Оронгойской волости», № 45 – «бурят Галзотской волости» [6, л. 104, 110]. Можно отметить и имена других жертвователей, присвоенные койкам лазарета: № 33 –
«братьев Аарона, Мойсея и Давида Лазаревичей Самсонович», № 32 – «Исая Мойсеевича и Сары Матвеевны Шлезингер» [6, л. 104]; № 34 – «г. Троицкосавска», № 42 – «Би-чурской и Окиноключевской волостей», № 43 – «сельских обществ Мухоршибирской волости» [6, л. 110].
Об отказе крещеных хамниган Онгоцонской инородной управы платить пожертвования буддийскому духовенству и откочевках в Монголию.
В своем донесении от 25 января 1915 г. Онгоцонское инородческое волостное правление сообщало Пандито Хамбо-ламе об отказе крещеных инородцев волости в числе 18 душ от двухрублевого сбора пожертвований. Отмечалось, что они отказались, поскольку вышеупомянутый сбор производится исключительно с инородцев, исповедующих буддийское (в тексте – Ламайское – авт. ) вероисповедание в числе 686 платежных душ. Аналогичным образом поступили крещеные инородцы Бырцинского булука в количестве 37 чел., которые не были включены в число 704 чел. булука [5, л. 75].
По данным бурятских этнографов Б.З. Нанзатова и М.М. Сод-номпиловой, население Онгоцон-ской управы представляло собой конгломерат, объединенный мон-гольско-хамниганским языком и приверженностью буддизму. В 1829 г. из 1645 чел. Онгоцонской управы 1515 чел. были буддистами, 130 чел. – «христианами греческого исповедания» [8, с. 26, 33]. Таким образом вышеупомянутые крещеные инородцы являлись немногочисленной группой онгоцонских хамни-ган. Большинство онгоцонских хамниган в начале XX в. придерживалось буддийской религии.
Распоряжение Пандито Хамбо-ламы Д.-Д. Итигэлова от 24 февраля 1915 г. за № 40, направленное в Онгоцонское инородческое волостное правление, не содержит никаких указаний относительно крещеных инородцев, отказавшихся от сбора пожертвований. Можно предположить, что буддийское духовенство считало излишним вступать в обсуждение этого вопроса с Забайкальской епархией, поскольку речь все же шла о приверженцах православия. К тому же число отказавшихся от благотворительности было незначительно. Поэтому этот вопрос не затрагивался в распоряжении. Пандито Хамбо-лама требовал «аккуратного исполнения денежных отчислений на Красный Крест и воздушный флот», предупреждал, что со стороны начальства может состояться ревизия в правильности распределения денег, также просил написать ему подробное разъяснение по сбору денежных пожертвований и прислать копию приговора по двухрублевому сбору, который будет принят населением волости [5, л. 76].
Помимо отказа от сбора пожертвований крещеных хамниган имелась в Онгоцонской управе и другая проблема. Так, волостной старшина Онгоцонского инородческого правления Цыден Санжиев 20 февраля 1915 г. сообщал съезду 43
Общебурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны, что «…пополнить денежные средства не представляется возможности, ибо масса инородцев укочевала за границу в Монголию и в разные станицы, где действовать нет у меня власти, и они живут разбросанно и далеко. Местная администрация делает распоряжения о не привлечении таких инородцев даже к казенным налогам. А потому, принимая во внимание, что вопрос этот касается всего бурятского населения и что откочевка инородцев в иностранные и посторонние ведомства как правительству так и оставшемуся на месте населению грозит в материальном отношении ущербом и не успешностью в общих делах, покорнейше прошу съезд членов Бурятского комитета не оставить в разрешении сего вопроса имея в виду, что мы, инородцы, в этот переживаемый нашей Родиной трудный момент должны помочь всеми силами без исключения, а не раскочевывать собственно для своих личных интересов» [5, л. 77]. Примечательно, что в своем сообщении волостной старшина Онгоцонского инородческого правления Ц. Санжиев говорит обо всем бурятском населении, не выделяя отдельно хамниган. Этот факт, на наш взгляд, в очередной раз подтверждает мнение о том, что в начале XX в. ононские хамниганы (онгоцонские являются ответвлением этой группы – авт. ) считали себя составной частью бурятского народа.
Как указано выше, пользуясь приграничным положением региона и наличием недостаточно охраняемых участков государственной границы, некоторые лица уходили в Монголию. Об этом писала и особая комиссия по обследованию вопроса о землепользовании населением Забайкальской области в пограничной с Монголией полосе. В частности, комиссией было отмечено «несколько случаев перехода инородцами и другими русскими подданными монгольской границы в целях явного уклонения от призыва, первыми на тыловые работы, а лицами второй категории – от призыва в войска по мобилизации» [9, л. 30].
Оказание бурятами сельскохозяйственной помощи семьям русских крестьян, призванных на войну.
Сохранилось обращение военного губернатора Забайкальской области за № 1108 от 4 мая 1915 г. к ширетую Ацайского дацана Д. Цынгунову, в котором отмечалось, что забайкальский отдел Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны, изыскивая средства для оказания сельскохозяйственной помощи семьям воинов, решил открыть подписку среди населения области. Выражалась в нем надежда, что ширетуй отнесется к этой насущной безотлагательной нужде с той же отзывчивостью, с какою жертвовал крупные суммы на формирование двух полевых лазаретов, посланных на Кавказский и Западный фронты военных действий. Военный губернатор подчеркивал, что долг перед Родиной обязывает каждого гражданина прийти на помощь семьям 44
участников войны при полевых работах, так как многие находятся на краю разорения и без посторонней помощи не могут даже произвести посевные работы на своих полях. Далее в обращении кратко указывалось: «нужда громадная – время не терпит» [2, л. 62]. Таким образом, как явствует из документа, имели место прямые обращения военного губернатора Забайкальской области к ширетуям бурятских дацанов, что, очевидно, свидетельствует о серьезности положения дел в сельском хозяйстве области. Можно полагать, что буддийское духовенство оказывало не только финансовую помощь, но и поощряло содействие бурят в проведении сельскохозяйственных работ, оказываемое семьям мобилизованных русских крестьян. В архивных фондах сохранились некоторые факты непосредственной помощи бурят. Так, в протоколе совещания Верхнеудинской комиссии Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну, от 7 апреля 1915 г., говорилось о необходимости привлечения бурят (в тексте – инородцев – авт.) Верхне и Нижне-Хилкосон-ских булуков к полевым работам крестьян Енгорокского отдельного сельского общества. Это сельское общество было образовано из переселенцев, совершенно не обжившихся на новом месте. Помощь бурят должна была выражаться в безвозмездном личном труде, отпуске для крестьян орудий и лошадей для работ, поскольку Енгорокское общество находилось на значительном удалении от остальных сельских обществ и было окружено землями вышеотмечен-ных бурятских булуков [10, л. 139 об – 140]. Верхнеудинский уездный распорядительный комитет журналом от 30 марта 1915 г. по просьбе крестьян селения Барского Куналейской волости постановил привлечь инородцев Барун-Харга-натской и Цолгинской волостей для распашки крестьянами Барского селения 50 десятин под посев [10, л. 140].
О кружечном сборе в Тамчин-ском дацане во время проведения религиозного праздника «цам» в июне 1915 г.
В Государственном архиве Забайкальского края нами обнаружен документ, свидетельствующий о проведении кружечных сборов во время буддийских религиозных праздников. В источнике говорится о намерении уездной комиссии провести подобный сбор. Поскольку он представляет собой протокол заседания комиссии, можно предполагать, что кружечный сбор в Тамчинском дацане все же состоялся. Ниже даем текст документа: «Протокол. 6 июня 1915 г. Селенгинская уездная комиссия Комитета Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, в заседании сего числа, обсуждая вопрос об увеличении средств, постановила: 1) произвести однодневный кружечный сбор в Гусиноозерском дацане Селенгинского уезда 8 июля сего года, так как в этот день 45
годового бурятского праздника под названием «цам» происходят особенно чтимые ими процессии ламаитского духовенства, на которые и съезжаются со всей Забайкальской области и других местностей в значительном количестве буряты, а также бывает и русское население; 2) сбор предназначить на вспомоществование при уборке сена; 3) каждому жертвователю сборщики должны прикалывать пучки травы и полевых цветов, перевязанные ленточками, каковые и заготовить по получении разрешения на означенный сбор. О разрешении производства сбора войти с представлением в Забайкальское отделение Комитета Ее Высочества» [11, л. 60]. Следует отметить, что в годы Первой мировой войны резиденция Пандито Хамбо-ламы – Тамчинский дацан – становится также центром благотворительной деятельности бурятских сообществ [12, с. 341].
Заключение. Как показывает наше исследование, в годы Первой мировой войны местные власти активно привлекали бурятское духовенство к различным видам сбора пожертвований, особое внимание уделяя благотворительности во время буддийских религиозных праздников. Они обращались также к ширетуям бурятских дацанов как авторитетным посредникам с просьбой о помощи семьям мобилизованных крестьян. И очевидно, после призыва буддийского духовенства бурятское население оказывало содействие русским селам в проведении сельскохозяйственных работ. Ширетуи дацанов играли большую роль в проведении волостных сходов, составлении документов, выдвигали свои предложения по организации сбора пожертвований, помощи раненым. В то же время, согласно архивным материалам, у буддийского духовенства возникали проблемные ситуации по сбору пожертвований среди группы крещеных онгоцонских хамниган. Несмотря на эти и другие моменты, буддийское духовенство Восточной Сибири во главе с Пандито Хамбо-ламой Д.-Д. Итигэловым продолжало успешно руководить «Общебурятским комитетом по сбору пожертвований на нужды войны», оказывая также посильную поддержку лазаретам, семьям мобилизованных крестьян, раненым и больным воинам.
Список литературы Новые данные о благотворительной деятельности буддийского духовенства Восточной Сибири в годы Первой мировой войны
- Цыбенов Б. Д. Благотворительная и врачебная деятельность буддийского духовенства Восточной Сибири в годы Первой мировой войны (на основе материалов Государственного архива Республики Бурятия) // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2023. № 4 (28). С. 55-79.
- ГАРБ (Государственный архив Республики Бурятия). Ф. 84. Оп. 1. Д. 555.
- Михеев Б. В. Благотворительность бурят в годы Первой мировой войны // Вестник Челябинского государственного университета. История. 2012. № 11 (265), Вып. 50. С. 119-122.
- Михеев Б. В. Деятельность Агинского инородческого волостного правления в период с 1915 по 1917 г. // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 7. С. 130-133.
- ГАРБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 496.
- ГАЗК (Государственный архив Забайкальского края). Ф. 12. Оп. 1. Д. 20.
- Жалсанова Б. Ц., Чимитдоржиева Л. Ш. «…Буряты и тунгусы, простолюдины и интеллигенция, духовные и статские! К вам мы обращаемся – организуйтесь в волостные, булучные и улусные комитеты, организуйте сборы пожертвований везде и всюду, покажите в этой работе – горячем отклике на наше обращение, что вы граждане, дети своей родины, что жива в вас великая совесть!» (документы о благотворительной деятельности бурятских обществ в помощь пострадавшим от войны) // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2015. № 2 (18). С. 246-253.
- Нанзатов Б. З., Содномпилова М. М. Онгоцонские хамниганы в XIX в.: этнический состав и расселение // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2021. Т. 36. С. 24-36.
- ГАЗК. Ф. 13. Оп. 2. Д. 54.
- ГАЗК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 19.
- ГАЗК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 26.
- Жалсанова Б. Ц. Деятельность Тамчинского дацана как центра управления буддийского духовенства в годы Первой мировой войны // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2012. Иркутск, 2012. С. 340-346.