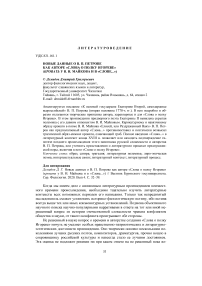Новые данные о В. П. Петрове как авторе «Слова о полку Игореве» (кровать у В. И. Майкова и в «Слове...»)
Автор: Демидов Дмитрий Григорьевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Анализируется послание «К великой государыне Екатерине Второй, самодержице всероссийской» В. П. Петрова (вторая половина 1770-х гг.). В нем подробно и образно излагаются творческие принципы автора, характерные и для «Слова о полку Игореве». В этом произведении придворного поэта Екатерины II выявлена скрытая полемика с его давним оппонентом В. И. Майковым. Карикатурному и навязчивому образу кровати в поэме В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» В. П. Петров как предполагаемый автор «Слова...» противопоставил и поэтически возвысил трагический образ-символ кровати, означающий гроб. Полное введение «Слова...» в литературный контекст конца XVIII в. позволяет или находить подтверждение гипотезе позднего происхождения этого памятника русской словесности и авторства В. П. Петрова, или уточнить представления о литературном процессе предпушкинской поры, включив в него «Слово о полку Игореве».
Образ, сатира, трагедия, литературная полемика, лиро-эпическая поэма, интертекстуальные связи, литературный контекст, литературный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/148317750
IDR: 148317750 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Новые данные о В. П. Петрове как авторе «Слова о полку Игореве» (кровать у В. И. Майкова и в «Слове...»)
Демидов Д. Г. Новые данные о В. П. Петрове как авторе «Слова о полку Игореве» ( кровать у В. И. Майкова и в «Слове...») // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 4. С. 32–39.
Когда мы имеем дело с анонимным литературным произведением неизвестного времени происхождения, необходимо тщательно изучить литературные контексты всех возможных периодов его написания. Только так непредвзятый исследователь сможет установить историко-филологическую истину, ибо истина всегда выше тех или иных конъюнктурных установлений. Подмена объективного научного поиска научно-популярными нарративами в ответе на тот или иной нерешенный вопрос из истории отечественной словесности чревата конфликтом общества и науки, от такого конфликта проигрывают обе стороны.
Не решенный в науке вопрос о времени и авторстве создания «Слова о полку Игореве» ничуть не умаляет особых нравственно-патриотических и литературноэстетических достоинств произведения. Оно творчески освоено несколькими поколениями лучших русских поэтов, композиторов, драматургов, прочно вошло в сокровищницу российской культуры и навсегда стало ее лучшим достоянием. Эта оценка не подлежит ревизии ни при каком ответе на не решенный пока во- прос об эпохе, обстоятельствах, авторстве и редакторстве «Слова...». Пути для свободной атрибуции «Слова...» открыты и школьному педагогу, и ученому, ср.: «Вдумчивый читатель, в частности школьный педагог, может сам выбрать среди разных мнений наиболее для него убедительное или симпатичное» [12, с. 11]. Попыток рассмотрения «Слова...» в литературном контексте древнерусской словесности более чем достаточно. К сожалению, не хватает работ по возможным интертекстуальным связям «Слова...» с произведениями XVIII в., на основе которых был бы сделан полноценный вывод об участии или неучастии этого великого произведения русской словесности всех времен в литературном процессе конца XVIII в.
Ряд работ, написанных С. В. Власовым и мною [2; 3; 4; 5; 6; 7], требует более внимательно отнестись к творчеству В. П. Петрова, который, по всей видимости, и создавал нарочитые «темные места» в «Слове...». Его собственные поэтические произведения дают ключ к прояснению целей такого необычного приема. Свои эстетические принципы Петров подробно и образно изложил в Послании к Екатерине (вторая половина 1770-х гг.) [11]:
Между стихами од нет лучше да поэм,
Затем что род сей полн гадательных эмблем;
Не Исо тут, ерок , кавыка иль вария -
Всё ероглифика да всё аллегория;
Пиит, ни тычки вон, - египетской мудрец;
Задачи он дает, - реши хоть лопни чтец.
На время, так сказать, из света он уходит;
По солнцу, по луне, по всем планетам бродит;
Ты в рай за ним летишь, а он уже в аду;
Ты в ад, ан в ветошном толчется он ряду;
Ты в ряд, при Истре он уже из пушек жарит,
То в политавры он, то в барабан ударит;
То на Иване вдруг Великом чудесит,
Во все колокола, опутавшись, звонит [11, с. 279].
«Гадательные эмблемы» мы находим и в «Слове...» [14]. Сила этого произведения заключается в смелом и стремительном переносе образа автора из эпохи великого князя Владимира в эпоху Игорева похода на половцев 1185 г., при введении образа легендарного вещего Бояна и диалоге с ним, с припоминанием вечей Трояних, лет Ярославлих, полков Олега Святославича. Старый Киевский князь Святослав произносит «Злато слово», в котором вспоминается время Бусо-во и выстраивается длинная череда русских князей разных предшествующих поколений. Столь же по-петровски выглядит молниеносная смена места действия: земля Половецкая (поле Половецкое), земля Русская, тропа Трояня, Дон, Сула, Киев, Новгород, Путивль, чистое поле, земля незнаема, Волга, морие, Сулие, Су-рож, Корсунь, Тьмутаракань, Чернигов, Каяла, Святая София в Киеве, земля Трояня, синее море, лука моря, у Плесньска на болони, дебрь Кисаню, брег синего моря, горы Угорские, Дунай, Рось, Переяславль, Двина, Белгород, Немига, Дудутки, Полотск, Путивль, Донец, Стугна, Боричев, Святая Богородица Пиро-гощая. Русская земля повторяется многократно (20 раз) своеобразным контрапунктом всего произведения. Неоднократно, но уже реже, упоминается и Киев (7 раз и еще 2 раза косвенно: столъ Киевский, горы Киевские), а среди рек, по- мимо Дона (15 раз), мистическая река Каяла – река раскаяния (6 раз). Таково сложнейшее распределение локумов.
Ряд часто обсуждаемых художественных особенностей «Слова...» изложена В. П. Петровым еще во второй половине 1770-х гг., когда создавалось Послание:
Чудесной лабиринт из замыслов составь:
Но к той же точке все околицы направь;
То выпусти весну, то молнии и громы;
Тут вновь построй, там рушь и башни, и хоромы;
Бездушну тварь душой, как Бог, водохнови;
Во бытие, чего нет в свете, призови;
Всё, что прекрасно есть, вели́ко и чудесно,
В сложении твоем заставь блистать совместно.
Сокровище души богатой обнажи;
Отечества любовь отечеству кажи;
Уверь сограждан, чье она перо предводит,
Толь мысли важные, и путь в сердца находит [11, с. 277].
Здесь говорится и о необходимой в хорошем произведении совокупности трудно разгадываемых замыслов, и о сквозных образах, к которым автор возвращается вновь и вновь, и о характерных стихиях молнии и грома, и о батальных сценах, и о мифических персонажах ( Карна, Жля, Слава, Обида ), и о лиризме, прекрасно совместимом с патриотическим чувством, как это и выражается в лиро-эпическом «Слове...». Петрову, возможно, не без помощи редактора Н. М. Карамзина, удалось найти «путь в сердца» русских читателей многих поколений.
Перечисляя мифических персонажей М. Д. Чулкова, Петров распространяет их на общее начало поэзии:
Все дуси воздуха, земли, небес и ада,
По росту, старшинству, заслугам и чинам,
Как кликаны в его стихи по именам [11, с. 280].
Тут же, в качестве примера, появляется Дий , который превратится в «Слове...» в Дива .
Об идеях и образах, густо рассыпанных по «Слову...», можно в точности сказать, что они в голове екатерининского стихотворца «...как в царстве мертвых тени, / Теснятся, давятся, копышутся, кишат, / И сами выскочить из тьмы на свет спешат» [11, с. 277]. Свои стихи Петров называет «живописью», живописно и «Слово...» (и даже кинематографично, причины чего объяснены А. А. Бурыкиным [1, с. 152–170], убедительно показавшим, что в «Слове...» точно изображены миниатюры Радзивилловской летописи). Причем некоторые эпизоды совершенно сознательно не закончены: «Не докончав одной, другую кажет сцену» [11, с. 280]. Особенно излюбленны батальные сцены: «Война – любимой нрав парнасских храбрых чад» [11, с. 288].
Разбираемое Послание позволяет раскрыть истоки некоторых образов. Боян в «Слове...» именуется соловьем старого времени, он скачет по воображаемому древу, летает умом под облака (вверх), «рищет в тропу Трояню чрез поля» (по равнине) на горы (снова вверх, но уже по суше). В Послании поэт «Вне дела исписал бумаги с полстопы, / Однако до своей допнался же тропы» [11, с. 286]. Значит, тропа Трояня – это свой собственный творческий метод, как у Гомера.
Императрица Екатерина II наверняка прочитала Послание поэта, незадолго до этого приглашенного ею в Петербург и взятого в библиотекари за удачно со- чиненную по ее заказу оду «На карусель» (1766), и, как обосновано ранее С. В. Власовым и мною, составила новый заказ, который известен как «Краткое содержание Слова» в бумагах Екатерины [8]. Зная литературные предпочтения поэта, она сама, либо через Г. Р. Державина поручила сочинять новую художественно-историческую реконструкцию В. П. Петрову. Педагогическое значение «Слова...» сомнений не вызывает и, скорее всего, входило в первоначальный замысел императрицы, заботящейся о воспитании своих внуков – великих князей Александра и Константина Павловичей.
В том же стихотворении [11] Петров развивает мысль о недопустимости в прозе и стихах «мешать желчь и яд» и намекает на сатирическую поэму Василия Ивановича Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771) [10]. Воображаемый критик (т. е. В. И. Майков) в стихотворении
Сквозь звук моей трубы и лиры вопиет:
«Что ты, - гласит, - певец, парнасской полон спеси,
Кричишь так, пьяного во образе Елеси?...» [11, с. 282].
Далее следует нелицеприятная оценка поэмы Майкова, которой высмеивает петровский перевод «Энеиды».
Если «поэма “Елисей” поставила Майкова в центр журнальной полемики и столкнула его с двумя противниками – В. П. Петровым и М. Д. Чулковым» [9, с. 11], то эта полемика надолго осталась в памяти Петрова и вполне вероятно встретить ее отзвуки в «Слове...», что подтвердило бы его авторство.
Ямщик Елисей и его жена, по ходу поэмы, оказываются героями разных любовных приключений. Будучи взятым под стражу и попав в Калинкин дом, где содержались на исправлении женщины легкого поведения, он приглянулся начальнице.
Начальница и так ему повелевает:
«Когда ты хочешь быть здесь весел и счастлив,
Так ты не должен быть, детинушка, болтлив;
Молчание всего на свете сем дороже:
Со мною у тебя едино будет ложе,
А попросту сказать, единая кровать ,
На коей ты со мной здесь будешь ночевать;
Но чтоб сие меж нас хранилось без промашки,
Возьми иголочку, садись и шей рубашки» [10, с. 103].
Она «готовила кровать , / На коей по трудах ему опочивать» [10, с.106], но, как на грех, той же начальницей прельстился командир стражи. Он мечтает: «Неу́жели она в сем даре мне откажет, / Что на кровать свою уснуть со мной не ляжет?» [10, с. 107].
В нечистом помысле приходит к той комна́тке,
В которой бабушка со внучком на кроватке .
Она за полчаса пред ним туда пришла
И Елисея в ней храпящего нашла;
Дрожащею рукой его она толкает И тихим голосом Елесю раскликает, Касаяся ему, по имени зовет:
«Проснися, Елисей, проснися ты, мой свет!»
Елеся, пробудясь, узрел святую мати,
Подвинулся и дал ей место на кровати [10, с. 07].
Пользуясь шапкой-невидимкой, Елеся наслаждался жизнью с начальницей. В конце концов она наскучила ему, и он ночью тайно убежал, а начальница «Упала на кровать , вскричала: “Ах мой свет! / Куда, Елесенька, куда ты отлучился?”» [10, с. 110]. Свою одежду Елеся сменил на женскую, чтобы быть незамеченным в женском исправительном доме. Убегая, он оставил свой камзол и порты у начальницы. Наутро решил заглянуть к ней командир стражи. «Портков схватить с собой с камзолом не успела, / Вскочила на кровать , а тот уже вошел...» [10, с. 111]. Получилась типичная комедия положений.
Встретившись со своей женой, Елисей выслушивает рассказ, как она посчитала себя вдовой и, чтобы восполнить нехватку средств к существованию, пошла на работу к немцу:
Но барин был ко мне как к ниточке игла:
Однажды вечером, как спать уж я легла,
А барин тихо встал со жениной кровати,
Пришел ко мне и стал по-барски целовати.
Проснулася жена, потом рукою хвать,
Ан стала без мужа пустехонька кровать.
Мы с ним лежим, а та с своей постели встала
И нас в другой избе лежащих с ним застала [10, с. 116].
В другой раз ловкий Елеся зашел в дом к жадному купцу-откупщику (поэма высмеивала этот неправедный род занятий): «Елеся в дом заполз в кафтане, будто рак, / И прямо под кровать купецку завалился» [10, с. 121]. В это время
Летят и дождь, и град, и молния на низ.
Премена такова живущих в ужас вводит:
Не паки ли Зевес в громах к Данае сходит?
Не паки ль на нее он золотом дождит,
Да нового на свет Персея породит?
Не Зевс, но сам ямщик встает из-под кровати,
Идет с купецкою женою ночевати.
<...>
Приятное лицо и алые уста
Всю кровь во ямщике к веселью возбуждали
И к ней вскарабкаться на ложе принуждали.
Не мысля более, он прямо к ней прибег
И вместе на кровать с молодушкою лег [10, с. 121-122].
В своей поэме Майков неоднократно сталкивает в одном контексте высокий синоним (здесь ложе ) и общеупотребительное слово (здесь кровать ) ради достижения сатирического эффекта. Нет сомнения, что образ кровати является сквозным. Всего слово кровать употребляется один раз в «Содержании поэмы» и 14 раз в ее основном тексте. Можно сказать, оно становится просто навязчивым.
Это, конечно же, не осталось незамеченным Петровым, и он, по всей видимости, не оставляя творческой полемики с Майковым, также два раза ввел образ кровати в «Слово...». Сначала на кровати тисовой возлежал престарелый великий князь Киевский Святослав: «А Святъславь мутенъ сонъ видѣ: въ Кiевѣ на го-рахъ си ночь съ вечера одѣвахъте мя, рече, чръною паполомою, на кроваты тисовѣ. Чръпахуть ми синее вино съ трудомь смѣшено; сыпахутьми тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великый женчюгь на лоно, и нѣгуютъ мя» [14, с. 23]. Затем кровать появляется в сцене гибели Изяслава Васильковича в бою с литовцами: «Единъ же Изяславъ сынъ Васильковъ позвони своими острыми мечи о шеломы Литовскiя; притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чръле-ными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ Литовскыми мечи. И схоти ю на кровать, и рекъ: дружину твою, Княже, птиць крилы прiодѣ, а звѣри кровь полизаша» [14, с. 33–34].
Обе сцены преисполнены неподдельного трагизма. Шаржированное паясничанье Майкова Петров оборачивает в «Слове...» судьбоносными историческими преданиями, связанными с тяжелым исходом событий, противопоставляя карикатурности и пошлости майковского образа высокую трагичность и загадочную ми-фологичность своего образа. Сцена с «мутным сном» содержит тревожную догадку о гибели Игорева войска. Кровать тисова означает гроб [15]. В сцене гибели Изяслава упоминается Слава. Полагаем, что этот образ входит в число других богинь «Слова...» – Обиды, Карны и Жли. Глагол притрепати известен в значениях ‘дергая, измять, испортить’, ‘избить, убить’ и ‘погладить, приласкать’ [13]. В силу этого вполне возможна игра смысла: приласкал Славу, а сам оказался убитым. Примерно такое толкование дают Л. А. Булаховский, Д. Наумов, В. И. Стел-лецкий [13]. Если отказаться от конъектур, то глагол * схотити придется понимать как авторское новообразование Петрова, стилизованное под древнерусское слово, каковых немало в «Слове...». Местоимение жен. рода ед. числа в вин. падеже ю относится к слову Слава , и весь контекст можно понять как «надругался над Славой своего деда».
Глагол схотити созвучен глаголу похитити , который встречается в начале «Злата слова Святослава» в контексте с той же Славой : «А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго и многовои брата моего Ярослава съ Черниговьскими былями, съ Могуты и съ Татраны и съ Шельбиры, и съ Топчакы, исъ Ревугы, и съ Ольберы. Тiи бо бес щитовь съ засапожникы кликомъ плъкы побѣждаютъ, зво-нячи въ прадѣднюю славу . Нъ рекосте му жа имѣся сами, преднюю славу сами похитимъ , а заднюю ся сами подѣлимъ. А чи диво ся братiе стару помолодити?» [14, с. 27]. Следовательно, схотити можно понимать как ‘похитить, исхитить’. Если во «Сне Святослава» кровать символизирует гроб, то и здесь схоти ю на кровать следует понимать как перифразу «погубил её», буквально, «загнал в гроб». Аллитерация на кровавѣ травѣ и схоти ю на кровать так же несомненна, как и аллитерация похитимъ и схоти . У Петрова аллитерация играет активную смыслообразующую роль.
В сентиментальной поэзии любовь соседствует со смертью. Этот мотив В. П. Петров «иероглифически» заложил и в сцену гибели Изяслава. Погнавшись за вожделенной Славой , самонадеянный князь погубил и ее, и себя, и свою дружину. Символическим образом кровати поэт ломоносовской школы дает достойный ответ своему давнему оппоненту В. И. Майкову, о котором он выразился весьма неприглядно:
Ты не пиит: твой слог болото, не река.
Предавшись дум своих неукротимой буре,
Ворвясь во вертоград, игривое козля,
Лишь только портишь, что произнесла земля [11, с. 282].
Игривому настрою поэтов вроде В. И. Майкова Петров противопоставляет свой дерзновенный образ поэта, сопоставимый с царем:
Восторжествуй, мое по хартии́ перо!
Пусть видит свет, коль ты на почерки остро.
Рисуй, опять рисуй пиитов превосходство,
И наше довершай с царями лестно сходство!
<...>
Пусть тощи наши суть все за́кромы, лари,
Стяжавцы мы ума – и следственно цари.
Хоть кротость и самих монархов украшает,
Богата рифма нам быть кроткими мешает [11, c. 286–287].
Итак, подтверждается авторство «Слова...». В поэзии В. П. Петрова, придворного поэта Екатерины, мы находим подробное изложение творческих принципов, на основе которых создано и «Слово...». Многократное повторение кровати как постоянного аксессуара, сопровождающего фривольные сатирические сценки в «Елисее» В. И. Майкова, не могло не обратить внимание предполагаемого автора «Слова...» и его давнего поэтического оппонента. Преследуя основную цель художественно-исторической реконструкции древней песни, В. П. Петров мастерски воспользовался этой возможностью продолжить скрытую полемику с В. И. Майковым и возвысить, облагородить, реабилитировать образ кровати, возвратить ему подобающее поэтическое достоинство. Полное введение «Слова...» в литературный контекст конца XVIII в. позволит либо отказаться от гипотезы позднего происхождения этого архаизированного произведения русской словесности и авторства В. П. Петрова, либо внести уточнения в наши представления о литературном процессе предпушкинской поры, включив в него «Слово о полку Игореве».
Список литературы Новые данные о В. П. Петрове как авторе «Слова о полку Игореве» (кровать у В. И. Майкова и в «Слове...»)
- Бурыкин А. А. Слово о полку Игореве. Текст, язык, автор. СПб.: Петербургское востоковедение, 2017. 416 с.
- Власов С. В. Некоторые материалы к опыту сравнительного анализа военных образов в «Слове о полку Игореве» и в оде В. П. Петрова «На взятие Измаила» (1790) // Язык и социальная динамика: спец. вып. Ценности социума. Красноярск, 2013. С. 169‒181.
- Власов С. В., Демидов Д. Г. Что могут сказать современные лингвисты о времени создания «Слова о полку Игореве»? (Критические заметки по поводу книги А. А. Зализняка
- «“Слово о полку Игореве”: взгляд лингвиста») // Вестник Лит. ин-та им. А. М. Горького. 2014. № 4. С. 6–37.
- Власов С. В., Демидов Д. Г. О соотношении екатерининской копии «Слова о полку Игореве» и других сопутствующих материалов из архива Екатерины II // Академик А. А. Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие: сб. ст. к 150-летию со дня рождения ученого / отв. ред. О. Н. Крылова, М. Н. Приемышева. СПб., 2015. С. 668–703.
- Власов С. В., Демидов Д. Г. Военно-политическая тематика и ее репрезентация в «Слове о полку Игореве» и в русской литературе второй половины XVIII века // Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: сб. научн. тр. Вып. 8. Дискурсы рефлексии: филологические практики в контексте исторического мышления. Минск: РИВШ, 2019. С. 177–193.
- Демидов Д. Г. Поэзия В. П. Петрова и «Слово о полку Игореве» // Вестник Владимир. гос. ун-та им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Социальные и гуманитарные науки. 2018. № 1 (17). С. 61–72.
- Демидов Д. Г. Поэт В. П. Петров и историк Н. М. Карамзин как автор и редактор «Слова о полку Игореве» // Вестник ф-та рус. яз. и лит. Ун-та китайской культуры (Тайбэй, Тайвань). 2019. Вып. 19. С. 99–120.
- Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». Материалы и исследование. М.–Л.: АН СССР, 1960. 379 с.
- Западов А. В. Творчество В. И. Майкова // Майков В. И. Избранные произведения / вступ. ст., подг. текстов и прим. А. В. Западова. М.; Л., 1966. С. 5–52.
- Майков В. И. Елисей, или Раздраженный Вакх // Майков В. И. Избранные произведения. С. 73–134.
- Петров В. П. К великой государыне Екатерине Второй, самодержице всероссийской // Петров В. Выбор Максима Амелина. Оды, письма в стихах, разные стихотворения. М., 2016. С. 273–294.
- Ранчин А. М. «Слово о полку Игореве»: путеводитель. СПб.: Нестор-история, 2019. 272 с.
- Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»: в 6 вып. / сост. В. Л. Виноградова. Л., 1965–1984 [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/slovoss/ss-abc/ (дата обращения: 06.12.2020).
- Слово о пълку Игоревѣ, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова. М., 1800.
- Соколова Л. В. Сон Святослава // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: в 5 т. / отв. ред. О. В. Творогов. СПб., 1995 [Электронный ресурс]. URL: http://feb- web.ru/feb/slovenc/es/ (дата обращения: 06.12.2020).