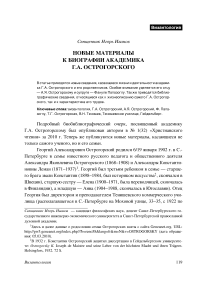Новые материалы к биографии академика Г.А. Острогорского
Автор: Иванов Игорь
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Византология
Статья в выпуске: 2 (43), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье приводятся новые сведения, касающиеся жизни и деятельности академика Г.А. Острогорского и его родственников. Особое внимание уделяется его отцу — А.Я. Острогорскому и супруге — Фануле Папазоглу. Также приводятся библиографические сведения, относящиеся как к жизнеописанию самого Г.А. Острогорского, так и к характеристике его трудов.
Византология, г.а. острогорский, а.я. острогорский, ф. папазоглу, т.г. острогорская, в.н. тенишев, тенишевское училище, гейдельберг
Короткий адрес: https://sciup.org/140189956
IDR: 140189956
Текст научной статьи Новые материалы к биографии академика Г.А. Острогорского
1962 г. — Театр юного зрителя, ныне театр Академии театрального искусства), а мать работала в училище директором библиотеки.
Сперва нужно рассказать об отце будущего византолога. Александр Яковлевич Острогорский родился в еврейской семье, в Гродно 20 октября (1 ноября) 1868 г.3. После окончания в 1892 г. юридического факультета Петербургского университета он служил в учебном отделе Министерства финансов. А в 1895 г. был назначен членом учреждённой при Министерстве народного просвещения Комиссии по подготовке Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде (1896). Александр Яковлевич организовал на ней учебный отдел, а в 1900 г. — русский отдел по народному образованию на Всемирной парижской выставке4. Кроме того, он сотрудничал в журнале «Об- разование», став затем его редактором-издателем (с 1896 г.). Он значительно расширил проблематику публикаций и преобразовал его из сугубо педагогического издания в общественно-политический, научно-популярный и одновременно литературный журнал. При А.Я. Острогорском в нём печатались А.А. Блок, А.С. Грин, Я. Корчак, А.Н. Толстой, В. Ходасевич и др.
В это же время вместе с князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым (1843–1903), известным меценатом 5 , Острогорский разрабатывает новую педагогическую доктрину. Он — инициатор создания и первый директор Тенишев-ского училища — средней школы, заметно отличавшейся от традиционной гимназии методикой преподавания и общим укладом жизни. Организаторы училища положили в основу своей работы бережное, гуманное отношение к личности ребёнка, её разностороннее развитие, внимание к индивидуальным особенностям ученика. Эти принципы осуществлялись во всей учебно-воспитательной работе училища, применявшего рациональные формы организации занятий и активные методы обучения (наглядность, лабораторные опыты, экскурсии и др.). Большое внимание уделялось здоровью и физическому развитию учеников, их эстетическому воспитанию.
Основанное как 3-х классная общеобразовательная средняя школа в 1898 г., учреждение было реорганизовано в коммерческое училище в 1900 г. и оставалось таковым до 1917 г. Здание училища было построено согласно новейшим принципам педагогики и давало детям возможность заниматься трудом и спортом, устраивать спектакли и музыкальные вечера. В актовом зале ставил спектакли Всеволод Мейерхольд, выступал Александр Блок. Здание представляло собой два больших корпуса, соединенных стеклянной галереей. В нем были просторные высокие светлые классы, огромные рекреационные залы, прекрасно оборудованные лаборатории и кабинеты, оранжерея с диковинными растениями, а также собственная обсерватория и две библиотеки, насчитывающие свыше 6 тысяч томов.
В училище принимались все дети, независимо от сословия и вероисповедания. Но особенно популярно оно было в среде петербургской интеллигенции. В «Тешишевке» была реализована собственная образовательная программа. Каждый преподаватель вел урок так, как это подсказывал ему многолетний опыт. Педагогический коллектив объединяла любовь к детям, стремление отдать все свои силы и помыслы воспитанию гармоничной личности. Уроки органично продолжали экскурсии ближние (по Петербургу и его окрестностям) и дальние (Крым, Урал, Прибалтика и даже Швеция). Регулярно организовывались экскурсии на фабрики и заводы, где учащихся знакомили с технологией и организацией производства. Особое место в жизни тенишевцев занимали историко-литературные экскурсии по Петербургу. В училище выходил интереснейший ученический рукописный журнал «Юная мысль». А под руководством известного поэта и преподавателя литературы В. Гиппиуса ученики написали и опубликовали большой коллективный литературоведческий труд под названием «Записки по истории русской литературы», в котором произвели анализ памятников русской словесности от «Слова о полку Игореве» до произведений Гоголя.
В школе были отменены награды, наказания и кондуиты, ежедневные отметки и переводные экзамены, успешно осуществлялась новая для средних учебных заведений семестровая организация занятий. К участию в жизни школы активно привлекались родители. При училище были образованы так называемые родительские собрания. А.Я. Острогорский близко знал каждого ученика и его семью, сам преподавал русский язык и словесность, ввёл уроки литературнохудожественного чтения, воспитывая в детях языковую культуру и любовь к литературе. Несомненно, все это сказывалось и в воспитании Георгия Острогорского. Как вспоминает Ф. Папазоглу (вторая жена Г.А. Острогорского), он «вырос в семье, где царила атмосфера любви к ценностям русской культуры. В молодости он был очень увлечен русской литературой и, несомненно, стал бы литературоведом, если бы остался жить в России. До конца своей жизни он был неразлучен с любимыми книгами: Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и другие деятели русской литературы никогда не переставали волновать и восхищать его душу, в них он черпал свое вдохновение. Всю свою жизнь он также любил свой родной город — Санкт-Петербург»6.
Специально для образовательных целей А. Острогорский издал учебную книгу «Русское правописание. Руководство к его наглядному изучению. Статьи для списывания» (1908, 1913) и хрестоматию «Живое слово» (1907–09, 1916), служившую для семейного чтения и пользовавшуюся популярностью у нескольких поколений детей. Хорошо изданное, с тщательно подобранным литературным материалом, иллюстрированное репродукциями работ В.В. Верещагина, И.Н. Крамского, И.И. Левитана, В.Г. Перова и др. известных художников, «Живое слово» знакомило с лучшими произведениями русской классики, а также писателей начинавшегося ХХ в. В первой четверти XX в. театральном зале Тенишевского училища проходили концерты, литературные вечера, в которых принимали участие В. Маяковский, В. Хлебников, В. Брюсов, А. Блок, С. Есенин, З. Гиппиус, В. Мережковский, А. Ахматова, М. Горький. В 1914 г. зал училища был преобразован Вс. Мейерхольдом для его знаменитых постановок пьес А. Блока «Балаганчик» и «Незнакомка».
В начале века в училище учились В.М. Жирмунский, О.Э. Мандельштам, В.В. Набоков (двое последних оставили воспоминания о Тенишевке: О. Мандельштам «Шум времени», В. Набоков «Мое русское образование»). После революции Тенишевское училище было преобразовано в Трудовую школу № 15. Но и в 20–30-е гг. в училище продолжали преподавать дореволюционные педагоги, а также молодые учителя, составившие затем гордость русской культуры:
Ю. Тынянов, И. Соллертинский, Б. Асафьев. С трудом, но еще удавалось сохранить удивительную, духовно насыщенную атмосферу школьной жизни. Характерен тот факт, что уже в советское время эту школу закончили Лидия Чуковская, Даниил Гранин, немало других известных писателей и поэтов 7 .
Кроме того в начале ХХ в. А.Я. Острогорский выступал как активный деятель многих общественно-просветительских организаций. В 1905–07 гг. он был одним из организаторов Союза учителей и деятелей по народному образованию (позднее Всероссийский учительский союз), участвовал в подготовке проекта реформ среднего образования, избран гласным Санкт-Петербургской Городской думы, учредил высшие юридические курсы. Скончался А.Я. Острогорский в Петербурге 1(14) октября 1908 г., несколько дней не дожив до своего 40-летия 8 .
Мать Георгия — урожденная Александра Константиновна Леман (1871–1937) — была дочерью офицера русского флота, капитана фрегата Константина Павловича Лемана (1838–1891) и Марии Николаевны Бутеньевой (1846–1879). Вторым браком Константин Павлович был женат на Марии Арсентьевне Карамышевой (1856–1942) 9 .
Что касается Александры Константиновны, после смерти А.Я. Острогорского она вышла замуж — в 1910 г. — за профессора Василия Романовича Сомера , в 1911 г. у них родилась дочь Александра (1911–2004). В 1921 г. семья Сомеров-Острогорских эмигрировала в Финляндию. Александра Константиновна скончалась в Хельсинки в 1937 г. в возрасте 66 лет.
В 1921 г. Георгий Острогорский поступил в Гейдельбергский университет на философский факультет. Ему преподавали Карл Ясперс, Гейнрих Риккерт, Альфред Вебер и Людвиг Куртиус. Помимо философии Георгий слушал лекции по собственному выбору — история, классическая филология, археология, политическая экономия и социология. Интерес к истории, и особенно к Византии, пробудил в нем молодой доцент Перси Эрнст Шрамм (1894–1970). В 1924–1925 гг. Г. Острогорский изучал византологию в Сорбонне — здесь его учителями были известные византологи: Шарль Диль, Габриэль Мийе и Жермэн Руйяр. Вернувшись в Гейдельберг в 1925 г., он защитил свою докторскую диссертацию 10 . Интересно замечание Ф. Папазоглу о выборе научного направления Г. Острогорским: «Вначале он был очарован лекциями К. Ясперса, читавшего курс философии, но потом он задумался о «практике» — нужно найти специальность, которая бы обеспечивала работой. И так он обратился к социологии и экономике.
Тогда он обратился к молодому доценту кафедры политической экономики Эдгару Салину (Edgar Salin), широкообразованному и скрупулезному исследователю. Он занимался переводами Платона и был прекрасным преподавателем, горячо любившим свой предмет. Проконсультировавшись с ним, Острогорский, однако, выбирает для докторской диссертации тему, которая не лежала в плоскости собственно научных интересов Салина. Георгий Острогорский полагал, что проблематика его диссертации будет решающей для его будущего научного направления. Острогорский взял на себя очень сложный и неисследованный текст византийского Податного устава и целиком отдавшись исследованиям этого вопроса, написал диссертацию под названием «Сельская податная община в Византийском царстве в X веке» (Die ländlishe Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X Jahrhundert // Vierteljhrschrift für Sozial und Wirtschaftgeschichte. 1927. Bd. 20. S. 1–108). С этим трудом Г. Острогорский и вошел в новую для него область византиноведения» 11 .
В 1927 г. Г.А. Острогорский женился на Ирине Николаевне Сауэр (1905–1948), а в 1928 г. у них родилась дочь Ольга. Далее в течение пяти лет (1928–1933 гг.) Г.А. Острогорский преподавал византийскую историю в Бреслау (Бреславль или Вроцлав в Силезии) и был директором культурноисторического отделения Бреславского восточноевропейского института. В эти годы он активно ведет научные изыскания на самые разнообразные темы и публикуется в различных западных изданиях.
В октябре 1930 г. Г.А. Острогорский принимал участие в III Международном конгрессе византинистов в Афинах, о чем он составил отчет, опубликованный в 4 выпуске «Семинария Кондаковианума» за 1931 г. Приведем выдержку из этого отчета: «Периодически повторяющиеся международные конгрессы византологов стали прочно установившейся ученой традицией. Очередной съезд ученых, работающих в области византиноведения и смежных научных областях, состоялся в октябре 1930 г. в Афинах. То обстоятельство, что этот съезд, как и предыдущий белградский 1927 г., был созван в одной из стран — наследниц византийской империи, уже могло служить благоприятным предзнаменованием для плодотворности его работ, поскольку работы этих съездов — также по установившейся со времен прекрасного белградского конгресса традиции — связа- ны с осмотром исторических памятников и экскурсиями в места, сохранившие следы византийской культуры. Главная цель съезда, предоставить обычно разобщенным специалистам-византологам возможность широкого личного общения, также оказалась вполне осуществленной, ибо съезд привлек огромное большинство работающих в данной области исследователей, объединив представителей всех европейских стран, в которых ведется работа по византиноведению. Отсутствовали только русские ученые, живущие в Советской России и лишенные враждебной серьезной науке советской властью возможности принимать участие в общей культурной работе. Из русских же ученых, проживающих за границей, в работах съезда приняли участие: М.А. Андреева (Прага), Н.М. Беляев (Прага), А.Н. Грабар (Страсбург), В.А. Мошин (Копривница), Н.Л. Окунев (Прага), Г.А. Острогорский (Бреславль), И.О. Панас (Прага) и А.В. Соловьев (Белград). Названными русскими учеными были прочитаны на съезде восемь докладов, на русском, немецком и французском языках»12.
Интересен факт международного сотрудничества в библиографиии Острогорского: в 1931 г. вместе с П.Р. Роденом (Peter Richard Rohden) Г.А. Острогорский издал трехтомный труд Menschen, die Geschichte machten: 4000 Jahre Weltgeschichte in Zeit- und Lebensbildern. Wien, 1931 [Люди, которые вошли в историю: 4000 лет мировой истории в жизнеописаниях].
В 1950 г. Острогорский вступил во второй брак с Фанулой Папазоглу (1917–2001). У них родилось двое детей: Татьяна (1950–2005) и Александр (1952).
Фанула Папазоглу родилась 3 февраля 1917 г. в Битоле (Македония), где получила среднее образование и жила до 1936 г. Затем училась на Философском факультете Белградского университета, специализируясь по классической филологии, истории древнего мира и археологии (1936–1941). В ходе Второй мировой войны участвовала в Народно-освободительном движении. С октября 1942 по апрель 1943 г. была заключенной лагеря в Баньице. В сентябре 1944 г. нелегально перебралась в Срем. С мая 1945 г. Фанула жила в Белграде и работала в Министерстве информации. В 1946 г. защитила диплом на Философском факультете, в 1947 г. была избрана ассистентом, в 1949 — преподавателем по кафедре истории древнего мира. После защиты диссертации — «Македонски градови у римско доба» [Города Македонии в римскую эпоху] в 1955 г. избрана доцентом, в 1960 г. заведующей кафедрой, а в 1965 г. — профессором. В 1974 г. Ф. Папазоглу была избрана членом-корреспондентом Сербской Академии Наук и Искусств, а в 1983 стала академиком.
С 1969 г. Фанула Папазоглу руководила Центром изучения античной эпиграфики и нумизматики при Философском факультете Белградского университета и была членом редколегии научного журнала «Жива антика». Предметом научного интереса Ф. Папазоглу были история Античности и балканистика, особенно политическая, экономическая и культурная история древней Македонии. Ф. Папазоглу участвовала в научных конференциях, проходивших в Афинах, Берлине и Мюнхене. Она была избрана членом-корресподентом Немецкого археологического института, почетным доктором Сорбоны, почетным членом Филологического общества «Парнас» в Афинах. Ф. Папазоглу — автор около 130 научных работ по истории древнего мира. Награждена Белградским орденом Октября и Орденом Седьмого июля 13 . Скончалась в Белграде 26 января 2001 г. 14 .
Среди основных трудов Ф. Папазоглу можно упомянуть:
Нужно отметить, что Ф. Папазоглу опубликовала одну статью и в советском журнале: К вопросу о преемственности общественного строя в микенской и гомеровской Греции // Вестник древней истории. 1974. № 4.
В 1978 г. Ф. Папазоглу написала уже цитировавшееся в данной статье предисловие к греческому изданию Истории византийского государства Г.А. Острогорского (Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. Αθηνα, 1978). Примечательны ее слова о личности Георгия Александровича: «он был человеком, который никогда ни от чего не отступал и не говорил «у меня нет времени»..., его карьера, несмотря на удары судьбы, была очень ровной и последо-вательной...»15. «Знание материала, четкость мысли, способность различать существенное в общем материале — предпосылки для любой успешной научной работы. У Г. Острогорского были эти качества в большей степени, чем у его современников. Человеческие черты ученого находят свое выражение даже в самой объективной науке. Что же придает особый колорит работам Острогорского? Это — выверенность, систематичность, ясное рассмотрение предмета, чувство меры в оценках, отсутствие преувеличений. Эти качества никогда не покидали его, отличая его и в повседневной жизни. Он ничего не делал спонтанно. Всякое дело в жизни и науке должно быть основательно и продуманно... Он стремился выразить свою мысль с максимальной точностью и красотой, будь это обыденная переписка, официальный документ или научная статья... У него была способность отделять важное от второстепенного. Он читал только те книги, которые имели бесспорное значение... Он был равнодушен к неудачам и ударам судьбы, к суете и конфликтам. Он не любил говорить о своих неприятностях, а трудности всегда воспринимал со спокойствием. Сколько внутренней силы нужно было для такого образа жизни! И эта сила чувствовалась во всем, что бы- ло ее содержанием. И не случайно, что у него не было ни одной неудачной работы или незавершенного дела. Если бы не болезнь, он мог бы еще много сказать о Византии. Но он никогда не говорил с сожалением о несостоявшихся планах. Поэтому, я думаю, что его жизнь была счастливой»16.
Иллюстрацией к этой характеристике может послужить продолжение ситуации, описанной в нашей предыдущей статье, где упоминается то, что в журнале «Вопросы истории» победного 1945 г. Г.А. Острогорского клеймят как белоэмигранта: «С самого начала своей научной деятельности Острогорский проявил готовность поставить свою исследовательскую работу на службу царизму с его официальной программой: «Самодержавие, православие и народность». Неслучайно поэтому Острогорский не принял Великой октябрьской социалистической революции и очутился в рядах белоэмигрантов. Оторвавшись от живительной почвы своей родины, Острогорский неизбежно сблизился с реакционным крылом историографии Византии»17. Так вот спустя некоторое время редакция «Вопросов истории» не только получает обличительное письмо от Г.А. Острогорского, но и публично приносит свои объяснения и извинения Г.А. Острогорскому. В колонке «От редакции» можно прочитать следующее: «Г.А. Острогорский, проф. Белградского университета и член-корреспондент Сербской академии наук, прислал в редакцию «Вопросов истории» письмо с возражениями против критической статьи Б.Т. Горянова, помещённой в №№ 3–4 «Вопросов истории» за 1945 год («Г.А. Острогорский и его труды по истории Византии»). По словам проф. Острогорского, эта статья даёт совершенно неправильное представление о его политических взглядах и содержит утверждения, не соответствующие истине. В своём письме в редакцию проф. Острогорский отвергает утверждение статьи, будто бы он с самого начала своей учёной деятельности проявлял готовность поставить свою исследовательскую работу на службу царизму, не принял Великой Октябрьской социалистической революции и очутился в рядах белоэмигрантов. Проф. Острогорский сообщает, что в 1917 г. ему было лишь 15 лет, и, стало быть, он не мог ставить свою деятельность на службу царизму. Очутившись с ранних лет заграницей, он не занимался политической деятельностью и не входил ни в какие эмигрантские общества и организации. Начав свои научные исследования в республиканской Германии, он немедленно после прихода Гитлера к власти ушёл из немецкого университета и уехал из Германии. С 1933 г. он состоит профессором Белградского университета и выбран членом-корреспондентом Сербской академии наук в новой Югославии. Редакция «Вопросов истории» выражает сожаление по поводу того, что в помещённой на страницах журнала статье доцента Б.Т. Горянова были допущены некоторые неточности в изложении биографии и политической деятельности проф. Острогорского. Известным основанием для заключения автора статьи о политических взглядах проф. Острогорского мог служить тот факт, что и после 1933 г. проф. Острогорский продолжал печатать свои работы в фашистской Германии. Так, его книга “Geschichte des bysantinischen Reichs” вышла в 1940 г. в Мюнхене, а его статья “Die Perioden der bysantinischen Geschichte” была напечатана в журнале “Historische Zeitschrift” за 1941 г. (Bd. 163, Heft 2), научная и политическая физиономия которого достаточно известна. В своём письме в редакцию проф. Острогорский обвиняет Б.Т. Горянова и в искажении его научных взглядов»18.
И не удивительно, что в силу подобной предвзятости и, невзирая на мировую известность и авторитет, имя и труды Г.А. Острогорского были практически неизвестны советскому историку. И только в 1960–70-х гг. о нем стали упоминать отечественные византологи. В 1968 г. в «Византийском временнике» появилась небольшая заметка Е.П. Наумова «Новая работа по истории сербовизантийских отношений в XIV в.» — рецензия на монографию Г.А. Острогорского «Серрская область после смерти Душана»19. Характерно, что на исторической родине Острогорскому дали опубликоваться только два раза. В 1958 г. в «Византийском временнике» (№ 13) была напечатана его статья «К истории иммунитета в Византии», а в 1973 г. в сборнике, посвященном 75-летию академика В.Н. Лазарева «Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура» публикуется (хотя и на первых страницах) его статья «Эволюция византийского обряда коронования». Несколько страниц посвящает разбору трудов югославской византинистики, и в частности работам Г.А. Острогорского советский византолог Г.Л. Курбатов в своем исследовании «История Византии (Историография)» (Л., 1975). Но наиболее доброжелательной и объективной стала статья А.П. Каждана, посвященная анализу концепция истории Византийской империи в трудах Г.А. Острогорского20.
Впрочем, даже редкие упоминания о крупных русских ученых-эмигрантах в советских научных изданиях настораживали Запад — их могли обвинить в симпатиях к большевизму. Например, в одном из частных писем историк М.М. Карпович замечает по поводу подобной ситуации: «Что касается книги (не статьи ли?), появившейся в 1948 г. в России, то в то время (еще до ссоры Сталина и Тито, если не ошибаюсь — да позднее это едва ли и могло бы произойти) в советских изданиях из русских ученых, застрявших в Югославии, печатался и Острогорский — как и Соловьев он по части пробольшевизма совершенно не виноват. Это просто парадокс, созданный обстоятельствами времени и места». (Письмо М. Карповича Р. Гулю от 18–V–52, Лондон)21 . На этот комментарий проливает свет рассказ о том, как во времена начавшегося противостояния Б. Тито и И. Сталина югославские коммунисты «отыгравались» на русской профессуре. Дело в том, что осенью 1949 г. по доносу студентов были арестованы декан Юридического факультета проф. А.В. Соловьев и его супруга с обвинением в политической неблагонадежности — якобы в своих лекциях проф. Соловьев не руководствуется марксистской методологией. Н.Н. Соловьева была отпущена через полгода за недостатком доказательств вины. А профессора продержали в тюрьме еще год и после показательного суда выпустили на свободу весной 1951 года, лишив всех прав, в том числе — права на пенсию. Так вот помогал семье Соловьева, особенно его 16-летнему сыну-гимназисту, который на время тюремного заключения родителей остался один и без средств к существованию, только близкий друг семьи — самоотверженный Г.А. Острогорский22.
Широта натуры Г.А. Острогорского сказывалась во всем: в его дружеских и деловых отношениях, в научной и административной деятельности. Из широкого круга исследовательских интересов Г.А. Острогорского можно выделить следующие отдельные темы: налоговая система Византии, отношения государства и Церкви, иконоборчество, средневековая иерархия государств, совместное владение в Византийской империи, цены и поденная оплата труда, исихазм, аграрная система в Ромейском царстве, византийский феодализм, идеология власти, византийско-славянские отношения, ромейская аристократия, византийские города в период раннего средневековья. Следует особо подчеркнуть, что как обширные исторические проблемы, так и отдельные события Г.А. Острогорский исследовал и интерпретировал в их непрерывном развитии, ибо ученый был глубоко убежден, что явления византийской истории не были чем-то неподвижным, напротив, их отличала особая внутренняя динамика.
Как отмечает Р. Радич, «для сербской историографии наиболее значимы византийско-славянские и особенно византийско-южнославянские отношения. Именно Г.А. Острогорский существенно расширил границы этой области, отблагодарив таким образом ту среду, в которой столько лет жил и работал. Приведем в качестве примера его известную работу о 32-й главе сочинения “De administrando imperio”, принадлежащего перу царя Константина VII Пор-фирогенита, которая является основным источником по истории сербов в период раннего средневековья. Острогорский впервые осмыслил и прокомментировал эту главу как целое, как единую хронику, посвященную сербским правителям. Образцовый, скрупулезный анализ данных, которые содержит эта глава, позволил ему пролить свет на первые столетия нашей истории, до тех пор закрытые и неизученные. Книга о Серской области в период после смерти царя Душана (1355) — особое звено в исследовании византийско-южнославянских отношений, пример научной проницательности и интуиции историка. На базе дипломатических источников и скудных описаний, давно известных истори- кам, Г.А. Острогорский восстановил картину жизни государства, о котором до тех пор почти ничего не было известно. Острогорский также внес драгоценный вклад в освещение нашего прошлого, изучая византийские институции, заимствованные сербским средневековым государством. Ярчайший пример здесь его ставшая классической работа о пронии, наиболее примечательном явлении византийского феодализма. Все эти работы существенно расширили наше знание о средневековье» 23.
В сентябре 1961 г. под руководством Г.А. Острогорского был проведен XII Международный конгресс византологов в Охриде. В 1960-е гг. под руководством Г.А. Острогорского в рамках совместной работы Византологического семинара при философском факультете и Византологического института Сербской академии наук и искусств сформировался феномен, известный сегодня в мировой науке как «белградская византологическая школа». Это кружок византинистов, несколько учеников Георгия Острогорского, каждый из которых, имея свой круг научных интересов, отличается исключительной научной скрупулезностью, владеет всеми премудростями профессии историка и в лучших традициях продолжает дело своего великого учителя.
Кроме того, интересен отмеченный Р. Радичем факт, что, «начиная с 1963 г. академик Острогорский учредил на кафедре византологии философского факультета так называемые «вторники», на которых собирались специалисты по средневековью для чтения и обсуждения византийских авторов. Эти «вторники» живут и сегодня, получив известность в научных кругах и за пределами нашей страны» 24 .
Двое детей Г.А. Острогорского тоже стали учеными. Дочь Г.А. Острогорского — Татьяна — получила великолепное классическое образование. В Белграде она училась в специализированной классической средней школе, где много внимания уделялось античной словесности. Благодаря отцу Татьяна прекрасно владела русским языком, а мама и бабушка учили ее новогреческому языку. Естественно, она свободно владела сербским языком, а также прекрасно общалась на французском и английском. Несмотря на такое образование, Та- тьяна выбрала путь математика. В 1973 г. она закончила Математический факультет Белградского университета, а в 1978 г. защитила магистерскую диссертацию «Saturation Problems in the Theory of Approximation of Real Functions». В 1980–1981 гг. Татьяна провела академический год в МГУ, работая под руководством С.Б. Стечкина. В 1987 г. она защитила докторскую диссертацию по теме “Lp Inequalities with Weights on Cones in Rn and Hp Spaces on Half-Planes in Rn”. С 1973 по 2003 г. Т.Г. Острогорская проработала в Белградском Математическом институте. С 1994 по 1998 г. она читала лекции в Университете Монпелье III (University of Montpellier III, France). В 1982 Татьяна была назначена выпускающим редактором “Publications de l’Institut Mathématique”. На этом посту она проявила себя как широкобразованный и трудолюбивый, надежный и ответственный человек, и благодаря ее усилиям уровень журнала заметно вырос. Т.Г. Острогорская — автор 28 научных публикаций25. Сын Г.А. Острогорского — Александр — живет и работает в Америке (Кэмбридж). Он профессор на Инженерно-механическом факультете Массачусетского технологического института (Department of Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology, Cambridge).
В заключение нужно сказать, что Г.А. Острогорский принадлежал к тем ученым, которым была подвластна практически любая область богатой и многогранной истории Византийской империи. Исследуя ту или иную проблему, он каждый раз совершал определенный научный переворот. Обладая широтой научного видения, характерной для славной русской византологической школы конца XIX – начала XX в., владея современными историографическими методами, разработанными в Западной Европе в первые десятилетия XX в., Г.А. Острогорский был ярчайшей научной индивидуальностью, чье творчество представляет собой целую эпоху в развитии современной византологии.
Приложение
Приведем список рецензий на немецкие издания «Истории византийского государства» (ИВГ) и их переводы, написанных в период с 1940 по 1996 г. в различных зарубежных исторических журналах (указывается автор и название журнала):
-
1. Рецензии на издание ИВГ 1940 г.
-
1. Blanken H. // Museum. 1941.
-
2. Bréhier L. // Journal des Savants. (1941). P. 155–159.
-
3. D.D. // Irenikon. 4 (1947). P. 463.
-
4. Dannenbauer H. // Theologische Literaturzeitung. 66 (1941). S. 274–276.
-
5. Dölger F. // Deutsche Literaturzeitung. 62 (1941). S. 198–203.
-
6. Enßlin W. // Byzantinische Zeitschrift. 42 (1943–1949). S. 256–264.
-
7. Gerstinger H. // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 48 (1941). S. 312–317.
-
8. Grégoire H. // Byzantion. 16 (1942–43). S. 545–555.
-
9. Halkin F. // Analecta Bollandiana. 60 (1942). S. 243–244.
-
10. Herman E. // Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte. 1941.
-
11. Jorga N. // Revue historique du sud-est européen. 18 (1941). P. 20–25.
-
12. Krüger Dr. // Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Unterrichtsverwaltungen der Länder 7 (1941) Nichtamtlicher Teil. Heft 7, S. 46.
-
13. Michel A. // Theologische Revue. (1942). S. 155–157.
-
14. Moravcsik G. // Archivum Europae Centro-Orientalis. 7 (1941). P. 333–338.
-
15. N.N. // Szazadok. A Magyar Törtenelmi Tarsulat közlönye [= Zeitschrift der Ungarischen Historischen Gesellschaft.]. 75 (1941). P. 58–62.
-
16. Paulová M. // Byzantinoslavica. 8 (1939–1946). P. 289–292.
-
17. Schissel O. // Historische Zeitschrift. 165 (1941). S. 133–137.
-
18. Schneider A. // Göttingische Gelehrte Anzeigen. 203 (1941). S. 114–115.
-
19. Soyter G. // Philologische Wochenschrift. 49 (1941). S. 649–650.
-
20. Spuler B. // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 34 (1941).
-
21. Stadtmüller G. // Leipziger Vierteljahrschrift für Südosteuropa. 5 (1941). S. 141–143.
-
22. Treitinger O. // Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters. 5 (1942). S. 264–267.
-
2. Рецензии на издание ИВГ 1952 г.
S. 350–354.
-
1. Amantos K. // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 22 (1952). P. 323–329.
-
2. Biondi B. // Jus (1954). P. 140–142.
-
3. Ceresa-Gastaldo A. // Orpheus. (1957). P. 97–100.
-
4. Delvoye C. // Revue Belge de Philologie et d’Histoire. 32 (1954). P. 600–602.
-
5. Dölger F. // Deutsche Literaturzeitung. 74 (1953). S. 595–598.
-
6. Dölger F. // Historisches Jahrbuch. 73 (1954). S. 247–248.
-
7. Downey G. // Speculum. 28 (1953). P. 411–412.
-
8. Enßlin W. // Byzantinische Zeitschrift. 47 (1954). S. 131–133.
-
9. Guillou A. // Revue d’etudes anciennes. 55 (1953). P. 488.
-
10. Halkin F. // Analecta Bollandiana. 71 (1953). P. 473–475.
-
11. Henry R. // L’Antiquité classique. 22 (1953). P. 566–569.
-
12. Herman E. // Orientalia Christiana Periodica. 19 (1953). S. 238–240.
-
13. Irmscher J. // Orientalische Literaturzeitung. 49 (1954). S. 490–495.
-
14. Janin R. // Revue des études Byzantines. 14 (1956). P. 283–284.
-
15. Jenkins R. // The Journal of Hellenic Studies. 73 (1953). P. 192–194.
-
16. Llorca B. // Estudios Eclesiasticos. 28 (1954). P. 131–132.
-
17. Martin C. // Revue d’Histoire Ecclésiastique. 49 (1954). P. 911–913.
-
18. Matanić P. // Antonianum. (1962).
-
19. Moravcsik G. // Antik Tanulmányok = Studia Antiqua. 3 (1956). P. 225–226.
-
20. N.N. // COH 5 (1952–53). P). 316–317.
-
21. Spuler B. // Der Islam. 31 (1954). S. 122–128.
-
22. Stadtmüller G. // Gnomon. 27 (1955). S. 129–130.
-
23. Steppat F. // Politische Literatur. 12 (1953).
-
2.1. Рецензии на издание ИВГ на англ. языке (перевод J. Hussey). Oxford, 1956
-
1. Browing R. // The Journal of Hellenic Studies. 78 (1958). P. 175.
-
2. Runciman S. // The Classical Review. 8 (1958). P. 93–94.
-
2.2. Рецензия на издание ИВГ на англ. языке (перевод J. Hussey). 2-е издание. Oxford, 1968
-
1. Browning R. // The English Historical Review. 86 (1971). P. 151–152.
-
2.3. Рецензия на издание ИВГ на франц. языке (перевод J. Gouillard). Paris 1956
-
1. Grumel V. // Revue des études Byzantines. 18 (1960). P. 225–227.
-
2.4. Рецензии на издание ИВГ на англ. языке (перевод J. Hussey). 1-е американское издание. New Brunswick, 1958
-
1. Abbott N. // Journal of Near Eastern Studies. 20 (1961). P. 199–201.
-
2. Downey G. // Speculum. 34 (1959). P. 320.
-
3. Dvornik F. // The Catholic Historical Review. 45 (1959). P. 49–50.
-
4. Florovsky G. // Church History. 28 (1959). P. 96–97.
-
5. Vryonis S. // The American Historical Review. 64 (1958). P. 85–86.
-
2.5. Рецензии на издание ИВГ на англ. языке (перевод J. Hussey).
1-е американское издание. New Brunswick, 1969
-
1. N.N. // Revue des études Byzantines. 29 (1971). P. 355.
-
3. Рецензии на издание ИВГ 1963 г.
-
1. Grumel V. // Revue des études Byzantines. 23–24 (1965). P. 307–308.
-
2. Karayannopuls I . // Byzantinische Zeitschrift. 58 (1965). S. 118–121.
-
3. Ohnsorge W. // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 51 (1964). S. 502–503.
-
4. Rubin B. // Mundus. 1 (1965). P. 132–133.
-
4. Рецензии на издание ИВГ 1965 г.
-
1. Lendl. H. // Neue Volksbildung. 4 (1966).
-
2. N.N. // Het Christelyk Oosten. 19 (1966–67).
-
3. Runciman S. // The Classical Review. 16 (1966). P. 417.
-
5. Рецензии на издание ИВГ 1996 г.
-
1. Kandler K.-H. // Lutherische Theologie und Kirche. 20 (1996). P. 145.
Добавления к библиографии Г.А. Острогорского
-
1. Из чега и како је постала Византија // Српски Књижевни Гласник. (1934) C. 508–514. [Как возникла Визания]
-
2. Drei Praktika weltlicher Grundbesitzer aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts // Зборник радова Византолошког института 14–15 (1973) S. 81–101. [Три Опыта светских землевладельцев начала XIV в.]
-
3. Zur byzantinischen Geschichte: Ausgewählte kleine Schriften. Darmstadt, 1973 (новые издания были в 1974 и 1975 гг.). [О византийской истории: избранные статьи]
-
4. Byzanz und die Welt der Slawen: Beiträge zur Geschichte der byzantinischslawischen Beziehungen. Darmstadt, 1974. [Византия и Славянский мир: заметки к истории византийско-славянских отношений].
В 1931 г. вместе с П.Р. Роденом (Peter Richard Rohden) Г.А. Острогорский издал трехтомный труд “Menschen, die Geschichte machten: 4000 Jahre Weltgeschichte in Zeit- und Lebensbildern”. Wien, 1931 [Люди, которые вошли в историю: 4000 лет мировой истории в жизнеописаниях].
Что касается новых переводов ИВГ на иностранные языки, в 2006 г. появился перевод на китайский язык: 拜占廷帝國 , изд-во “ 青海人民出版社 ”.Так-же обнаружен перевод ИВГ на турецкий язык: Byzans devleti tarihi. Istanbul, 1999 (переводчик: проф. Türkçeye Çeviren). И, наконец, в 2011 г. появился долгожданный перевод ИВГ на русский язык, сделанный М.В. Грацианским с немецкого издания.
Особо следует упомянуть ряд статей, посвященных самому акад. Г.А. Острогорскому:
-
1. Adamović D. Georgije Ostrogorski (1902–1976) // Dragoslav Adamović, Razgovori sa savremenicima (Ko je na vas presudno uticao i zašto?), IRO ‘Privredna štampa’, Posebna izdanja, Beograd, 1982. 258–261.f
-
2. Barišić F. Akademik Georgije Ostrogorski kao organizator naučnih istraživanja. ZRVI. 18. Beograd, 1978. P. 281–285.
-
3. Ćircović S. Akademik Georgije Ostrogorski u jugoslovenskoj istoriografiji, ZRVI. 18. Beograd, 1978. P. 278–281.
-
4. Ferjančić B. Akademik Georgije Ostrogorski u svetskoj bizantologiji. ZRVI. 18. Beograd, 1978. P. 269–274.
-
5. Ferjančić B. Bizantija iz Beograda (Deset godina od smrti Georgija Ostrogorskog 1902–1976) / NIN. Beograd. 2.11.1986. P. 40–41.
-
6. Ferjančić B. Georgije Ostrogorski (1902–1976) / Glas SANU 372, Odeljenje istorijskih nauka. 8, Beograd, 1993. P. 57–95.
-
7. Ferjančić B. Ostrogorski Georgije, «Enciklopedija srpske istoriografije (Priredili Sima Ćirković i Rade Mihaljčić)», Knowledge. Beograd 1997. P. 548–550.
-
8. Grafenauer B. Georgije Ostrogorski (Petrograd 19.1. 1902–Beograd 24.10. 1976), Arheološki vestnik 29. Ljubljana 1978. P. 722–725.
-
9. Hunger H. Georg Ostrogorsky, Österreische Akad. d. Wiss., Almanach für das Jahr 1977, 127 Jahrgang, Wien, 1978. S. 539–544.
-
10. Nikolajević I. Istraživanja Georgija Ostrogorskog o principima bizantijske umetnosti, ZRVI 18. Beograd, 1978. P. 276–277.
-
11. Pirivatrić S. Georgije Ostrogorski, «Rusi bez Rusije – Srpski Rusi». Beograd, 1994. P. 179–188.
-
12. Radić R. Ostrogorski Georgije, «Likovna enciklopedija Jugoslavije, 2 (K-Ren)»
-
13. Radić R. Georgije Ostrogorski i srpska bizantologija, «Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka». Beograd, 1994. P. 147–153.
-
14. Каждан А.П. Концепция истории Византийской империи в трудах Г.А. Острогорского // Византийский временник. № 39. 1978. С. 76–85.
-
15. Dunham W.H. Kitzinger E., Sevčenko I. George Ostrogorsky / Memoirs of Fellows and Corresponding Fellows of the Mediaeval Academy of America // Speculum. Vol. 52. No. 3 (Jul., 1977). P. 774–776.
Список литературы Новые материалы к биографии академика Г.А. Острогорского
- Dunham W.H., Kitzinger E., Sevčenko I. George Ostrogorsky/Memoirs of Fellows and Corresponding Fellows of the Mediaeval Academy of America//Speculum. Vol. 52. No. 3 (Jul., 1977). P. 774-776.
- Janković S. Tatjana Ostrogorski//Publications de l’Institut Mathématique. № 80 (94). (2006). С. 2-6.
- Παπάζογλου Φ. Για την προςσωπικοτητα και το εργο του Γεωργιου Ostrogorsky//Ostrogorsky Г. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. Αθηνα, 1978. P. 3-7.
- Иванов И.А. Деятельность Г.А. Острогорского в среде русской научной эмиграции в 20-40-е годы//Современная культура России: основные черты и характерные особенности. Сб. науч. тр.: СПб.: СПбГИЭУ, 2009.