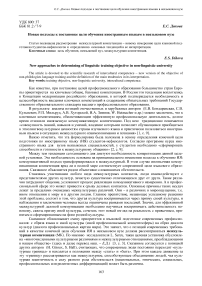Новые подходы к постановке цели обучения иностранным языкам в неязыковом вузе
Автор: Дикова Е.С.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Теория и методика обучения гуманитарным дисциплинам
Статья в выпуске: 15, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению межкультурной компетенции - новому измерению цели языковой подготовки студентов-нефилологов и определению основных тенденций в ее интерпретации.
Цель обучения, неязыковой вуз, межкультурная компетенция
Короткий адрес: https://sciup.org/148178702
IDR: 148178702 | УДК: 800:
Текст научной статьи Новые подходы к постановке цели обучения иностранным языкам в неязыковом вузе
Как известно, при постановке целей профессионального образования большинство стран Европы ориентируется на ключевые (общие, базовые) компетенции. В России эти тенденции воплотились в Концепции модернизации российского образования, в которой подтверждается необходимость и целесообразность введения ключевых компетенций в содержание обязательных требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
В результате анализа позиций отечественных и зарубежных авторов (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, W. Hutmacher и др.) можно заключить, что к ключевым компетенциям, обеспечивающим эффективную профессиональную деятельность, долгое время относили иноязычную коммуникативную компетенцию. Под нею традиционно понимается «совокупность знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет обучающимся приобщиться к этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания» [1, с. 9].
Важно отметить, что эта формулировка была положена в основу определения конечной цели подготовки по иностранному языку (ИЯ) студентов-нефилологов. Согласно программе курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей, у студентов необходимо «сформировать способности и готовности к межкультурному общению» [2, с. 9].
Между тем тенденции сегодняшнего дня диктуют необходимость конкретизации данной целевой установки. Эта необходимость основана на принципиальном изменении подхода к обучению ИЯ: коммуникативный подход трансформировался в межкультурный. В этом случае иноязычная коммуникативная компетенция вряд ли в полной мере соответствует современной цели языкового образования. Сказанное объясняется рядом объективно сложившихся обстоятельств.
Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно отличающихся друг от друга. Такие различия затрудняют общение, усложняют процесс реализации коммуникативного намерения. А в профессиональной сфере это может привести к срыву деловых контактов. Основные причины таких неудач лежат за пределами очевидных межкультурных различий. Они – в различиях в мироощущении, т.е. ином отношении к миру и к другим людям. Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, состоит в том, что другая культура воспринимается через призму своей культуры, и наблюдения и заключения человека всегда ограничены рамками последней. Значит, для эффективной межкультурной деловой коммуникации необходимо научиться воспринимать действительность по-новому, сквозь призму иной культуры, сочетать этот новый взгляд на реальность с привычным, принятым и сформированным на фоне родной культуры.
Сказанное обосновывает смену приоритетов в языковой подготовке современных профессионалов: с образа языка и иной культуры (иной профессиональной концептосферы) на образ диалога культур (диалога профессиональных картин мира). Это значит, что с позиций современных требований в качестве конечной цели обучения ИЯ в неязыковом вузе должна рассматриваться межкуль турная компетенция (МК). По мнению исследователя L. Sercu, такая целевая установка обусловлена «многочисленными культурными различиями и межкультурными отношениями, преобладающими в нашем обществе» (здесь и далее перевод наш. – Е . Д . ) [3, с. 3]. Сказанное согласуется с позицией других авторов (H. Giroux, S. Hall), считающих, что современные люди постоянно переходят «культурные границы» и находятся в положении между «стать» и «быть». При этом каждое движение за эту «границу» рассматривается как межкультурное, способствующее объединению людей, чья культурная идентичность в силу разного рода обстоятельств (национальных, этнических, социальных, профессиональных или религиозных дифференциаций) может быть различна.
Итак, становится очевидна трансформация целевой установки при подготовке современных специалистов, обусловленная нарастающим усилением позиции межкультурного подхода к обучению ИЯ в неязыковом вузе. Эта трансформация кратко выражена следующим образом: иноязычная коммуникативная компетенция → межкультурная компетенция .
Переход к новому – межкультурному – измерению цели подготовки специалистов активизировал проблему исследования МК в современной лингводидактической науке. Об этом свидетельствуют многочисленные работы отечественных ученых, посвященные рассмотрению различных аспектов данного явления (Г.В. Елизарова, Н.Д. Гальскова, Т.Н. Астафурова, Н.И. Алмазова, С.Г. ТерМинасова, И.И. Халеева, М.Г. Евдокимова, О.А. Фролова, М.П. Алексеева, М.Г. Корочкина, Е.П. Желтова, О.П. Дигина, И.Л. Плужник, М.В. Плеханова, Н.Д. Усвят, Ю.Л. Вторушина, Н.С. Тырхеева). Не менее интенсивно данная проблема разрабатывается за рубежом (M. Byram, G. Zarate, M. Canale, M. Swain, G. Hofstede, А. Knapp-Potthoff, A. Schinschkе, J. Bolten, J. House, U. Schneider-Wohlfahrt, P. Pfaender, B. Schmidt, S. Mueller, K. Gelbrich, B. Bergemann, N. Bergemann).
Детальный анализ работ ученых позволяет заключить, что до настоящего времени не существует единого мнения в отношении характеристики МК. На это указывают следующие факты: 1) наличие многочисленных подходов к интерпретации понятия МК, ее структуры; 2) отсутствие единой концепции в понимании взаимосвязи МК с ИКК; 3) отсутствие термина МК в словарях, в т.ч. по межкультурной коммуникации. Необходимо остановиться на изучении сути рассматриваемого явления с позиций образовательных условий неязыкового вуза.
Как показали результаты исследования, особенно велики достижения в этой области у немецких авторов. Специфика их подхода к интерпретации МК заключается в определении межкультурной компетенции как способности человека к сосуществованию и взаимодействию в определенной культурной общности. Так, U. Schneider-Wohlfahrt, P. Pfaender, B. Schmidt рассматривают МК как «способность людей разного возраста и пола мирно, без взаимной дискриминации совместно существовать в одном обществе» [4, с. 39]. Чуть более конкретизированно подходят к рассмотрению вопроса S. Müller, B. Bergemann: МК есть «способность эффективно и надлежащим образом взаимодействовать с представителями иной культуры» [5, с. 793]. Приведенные цитаты наглядно показывают, что такие определения МК в целом слишком общие по сфере своего применения. При такой интерпретации межкультурная компетенция может быть реализована при общении людей, принадлежащих к разным культурам, но пользующихся одним языком. Иными словами, такое расширенное толкование МК не содержит в себе иноязычной коммуникативной составляющей.
Иное, более конкретизированное определение МК с акцентуацией специфики партнеров и условий межкультурного взаимодействия дает A. Schinschke. Он обозначает МК как «транснациональную коммуникативную способность», понимает под ней совокупность взаимосвязанных способностей [6, с. 36], а именно:
-
- способность развивать и обогащать собственные представления о культуре, что предполагает, с одной стороны, понимание своей культуры, а с другой – понимание «чужой» культуры, но с точки зрения ее представителя;
-
- способность к взаимодействию «своей» и «чужой» культуры, то есть осознание возможной схожести или отличий, существующих в культурах. Это, в свою очередь, является предпосылкой для развития готовности и способности принимать во внимание и уважать своеобразие другой культуры, при этом не забывать о своей культурной принадлежности;
-
- способность овладевать определенными коммуникативными умениями. Данная способность позволяет открыто обсуждать все возможные проблемы, которые таит в себе общение между представителями разных культур;
-
- способность к эмпатии. Именно это качество (эмпатия) «способствует соединению коммуникативной компетенции, страноведческих знаний, эмоционального восприятия реальной действительности для достижения взаимопонимания между представителями разных лингвокультур» [там же, с. 49].
Как можно увидеть, данный автор дает более конкретизированное представление о МК, акцентируя: а) особенности взаимодействия, с одной стороны, коммуникантов и, с другой, двух разных культур; б) сложность коммуникативного процесса, реализующегося между ними; в) психологические и психолингвистические особенности, сопровождающие ход, результаты и последствия межкультурного диалога. О последнем следует сказать особо. В зарубежной традиции чрезвычайно сильна тенденция усиливать именно эту составляющую МК – психологическую. В частности, многие немецкие исследователи (C. Gnutzmann, А. Knapp-Potthoff, A. Thomas), интерпретирующие МК, акцентируют в своих работах особые личностные качества, значимые для осуществления эффективного межкультурного общения. К ним они относят: «преодоление этноцентризма, владение основами толерантного поведения, принятие во внимание этнической принадлежности, открытость по отношению к новым идеям, ценностям и убеждениям, готовность и способность изменять свое поведение» [7, с. 63].
Представленная позиция A. Schinschke, безусловно, интересна и заслуживает несомненного внимания. Тем не менее она имеет некоторые недостатки. Уточняя условия взаимодействия партнеров по общению – представителей разных лингвокультурных сообществ, автор не указывает языковой код, т.е. то, посредством какого языка оно реализуется. Можно предвидеть разные варианты реализации подобной ситуации, где все упомянутые выше особенности межкультурной коммуникации полностью соблюдаются, например: 1) общение представителей разных сообществ на одном языке, причем для одного из них он родной, для другого иностранный; 2) общение представителей разных сообществ на одном языке, иностранном для обоих (например, использование английского языка как lingua franca); 3) общение представителей разных сообществ, опосредованное деятельностью переводчика и т.д.
Рассмотрев позиции немецких ученых в определении сущности МК, можно заключить, что они недостаточно полно представляют данный феномен, характеризуя его в большей степени в личностных параметрах (что в целом согласуется с личностно-ориентированным подходом к определению целей подготовки в виде совокупности компетенций). Их изучению подлежит в основном совокупность знаний, навыков, умений и личностных качеств, необходимых для полноценного и продуктивного ведения диалога культур. При этом никто из авторов не делает ссылок на обладание хотя бы одним из участников этого диалога иностранным языком. Это обусловлено тем, что основным назначением межкультурного обучения в Германии (да и в других европейских странах) является установление взаимопонимания между представителями разных культур, говорящих на родном для немцев языке.
Межкультурная компетенция достаточно интенсивно исследуется и в отечественной науке (Г.В. Елизарова, И.Л. Плужник, М.Г. Корочкина, Н.Д. Гальскова, Н.С. Стенина, Т.Н. Астафурова, Н.М. Губина, М.В. Гараева, Е.В. Малькова, Л.М. Орбодоева, Н.С. Тырхеева, Н.Д. Усвят, З.К. Гутно-ва). Суммировав все данные по вопросу, можно выделить несколько подходов к рассмотрению данного феномена.
Первый подход связан со стремлением выявить глобальное содержание данной компетенции, представить ее в общем, широком смысле, что, как можно судить, вызвано несомненным влиянием зарубежной тенденции на толкование данной компетенции. Показательной в этом смысле является позиция Е.В. Мальковой. По ее мнению, межкультурная компетенция – это «способность мирно и без взаимной дискриминации существовать в одном обществе, способность участвовать в чужой до этого культуре» [8, с. 45]. Другие авторы, казалось бы, попытались конкретизировать такое понимание МК. Так, Н.М. Губина понимает под МК «способность воспринимать, понимать и интерпретировать феномены иной культуры и умений сравнивать, находить различия и общность с ценностным складом родной ментальности и национальными традициями, критически их осмысливать и встраивать в собственную картину мира [9, с. 53]. Схожую позицию мы находим у Н.Д. Усвят и О.А Фроловой. Они определяют МК как «способность и способность к межкультурному общению, основанную на сфор-мированности представлений об общечеловеческих ценностях, ориентации на них в сфере межкультурной коммуникации на основе эмпатии, позволяющую осознать национально-культурные особенности объекта культуры, увидеть общее и различное между контактирующими культурами и добиться взаимопонимания» [10, с. 80].
Как можно заключить, данные авторы действительно, конкретизируют МК, но только с точки зрения детализации ее общего толкования, не выходя за пределы ее глобального понимания. За пределами сферы внимания ученых остается конкретизация кода общения, механизма взаимодействия. Общение в таком виде может реализовываться между представителями одной и той же страны на одном и том же языке. Примером тому является Россия – полилингвоэтнокультурное (определение Н.Д. Гальсковой) государство.
Второй подход к толкованию МК имеет другую направленность. Здесь акцентируется непосредственно средство осуществления межкультурной коммуникации, а именно иностранный язык, который может выполнять эти функции. Например, по мнению Л.М. Орбодоевой, межкультурная компетенция представляет собой «высокий уровень владения способами осуществления межкультурной коммуникации между партнерами по взаимодействию, представителями различных культур» (выделено нами. – Е.Д.) [11, с.19]. Схожую позицию обнаруживаем у Т.Н. Астафуровой, согласно которой, МК – это «способность соотносить языковые (в значении иноязычные. – Е.Д.) средства с задачами и условиями общения с учетом социальных норм поведения в процессе коммуникации с представителями других культур» (выделено нами. – Е.Д.) [12, с. 165].
В целом такой подход не вызывает сомнений. Он демонстрирует специфику условий межкультурного взаимодействия с указанием принадлежности коммуникантов к разным лингвокультурам. В поддержку этой позиции выступают и другие авторы (З.К. Гутнова, Г.В. Елизарова, Н.С. Стенина). Они однозначно указывают на необходимость использования коммуникантами иностранного языка как средства этого общения. Так, З.К. Гутнова говорит, что МК – это «неотъемлемая черта вторичной языковой личности как участника межкультурной коммуникации, способного использовать иностранный язык для равноправного общения с носителем этого языка» [13, с. 13]. Эта же мысль выражена в работе Н.С. Стениной, в тех фрагментах ее исследования, где она указывает, что межкультурная компетенция – это «не только основа понимания культурного контекста и национального своеобразия при сопоставлении различных культур, но и показатель владения правильной речью с точки зрения норм изучаемого языка» [14, с. 3].
Проанализировав подходы отечественных и зарубежных исследователей к рассмотрению межкультурной компетенции, можно заключить следующее. Отечественные ученые стремятся инкорпорировать в содержание и структуру МК коммуникативную составляющую. При этом они конкретизируют ее, акцентируя: а) принадлежность коммуникантов к разным культурам и б) необходимость владения ими (коммуникантами) иностранным языком как средством межкультурного общения. Для зарубежных авторов принципиально важными становятся другие аспекты МК, соотносимые в большей степени с необходимостью преодоления сложностей культурологического, психологического и социального планов межкультурного взаимодействия.
Итак, в данной статье предпринята попытка определить основные тенденции в рассмотрении межкультурной компетенции в качестве современной цели языкового образования. Выявлена неоднозначность в ее толковании и расставлены приоритеты, значимые с позиций обучение ИЯ в неязыковом вузе.