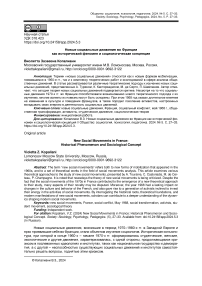Новые социальные движения во Франции как исторический феномен и социологическая концепция
Автор: Копалиани В.З.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Термин «новые социальные движения» относится как к новым формам мобилизации, появившимся в 1960-е гг., так и к комплексу теоретических работ и исследований в сфере анализа общественных движений. В статье рассматриваются различные теоретические подходы к изучению новых социальных движений, представленные А. Туреном, К. Касториадисом, М. де Серто, П. Шампанем. Автор отмечает, что сегодня теория новых социальных движений подвергается критике. Несмотря на то что социальные движения 1970-х гг. во Франции способствовали возникновению нового теоретического подхода к их изучению, многие аспекты их новизны могут быть оспорены. При этом 1968 год оказал длительное влияние на изменения в культуре и поведении французов, а также породил поколение активистов, настроенных вкладывать свою энергию в деятельность социальных движений.
Новые социальные движения, франция, социальный конфликт, май 1968 г, общественная трансформация, активисты, студенческое движение, социологическая теория
Короткий адрес: https://sciup.org/149145877
IDR: 149145877 | УДК: 316.423 | DOI: 10.24158/spp.2024.5.3
Текст научной статьи Новые социальные движения во Франции как исторический феномен и социологическая концепция
,
Термин «новые социальные движения» относится как к новым формам мобилизации, появившимся в 1960-е гг., так и к комплексу теоретических работ и исследований в сфере анализа социальных конфликтов. Историки склонны рассматривать май 1968 г. с упором на анализ рынка труда, утверждая, что социальная нестабильность послужила результатом модернизации французской экономики в конце 1950-х гг., которая произошла без обновления социальных отношений. По мнению американского исследователя К. Хауэлла, май 1968 г. стал «ответом на длительное лишение работников преимуществ экономического роста» (Howell, 1993: 15). Социологи объясняют 1968 год с разных точек зрения. Одни считают, что студенческий протест был вызван рядом причин: устаревшей университетской системой, привилегированным происхождением среднего класса и распространением левых идеологий (Germain, 2008: 22). А. Турен, например, предположил, что студенческий протест и забастовки были, по сути, новыми формами социальных конфликтов, проистекающими из неприятия технократических ценностей, которые пропагандировались государством и транснациональными корпорациями (Touraine, 1968: 18). Как предполагает М. Атак, социальное недовольство, предшествовавшее майским событиям, охватывало множество направлений и включало в себя неудовлетворенность системой высшего образования во Франции, неприятие войны во Вьетнаме, несогласие с обществом потребления, противопоставление капитализма и империализма, классовое угнетение и память об алжирской войне (Atack, 1999: 9).
В период мая - июня 1968 г. создавалось впечатление, что происходит социальная и политическая революция. Однако настоящей революции в общепринятом значении этого термина во Франции не наблюдалось. При этом имели место значительные изменения в общественном устройстве. Одним из ключевых событий 1970-х гг. во Франции стало продвижение и нормативное закрепление прав женщин. С этого времени женщины приобрели те же гражданские права, что и мужчины. Разногласия по поводу традиционных ролей, касающихся статуса мужчины или женщины, послужили объектом ожесточенных дебатов во французском обществе (Likin, 2022: 155).
Такие ученые, как А. Турен, А. Мелуччи и К. Оффэ, в большей степени разделяют идеи о том, что новые социальные движения, возникшие после 1968 г., были основаны на новых способах действия, новых притязаниях, бросающих вызов классическим концепциям политического участия, и в конечном счете на размывании центральной роли классового конфликта (Neveu, 2016: 21).
Помимо своего вклада в изучение социальных движений, движение 1968 г. оставило богатое наследие в области социальной теории. А. Турен отмечал необходимость интегрированного подхода к исследованию социальных движений. Французский социолог признавал, что социальные движения - это особый вид социального конфликта, выделял несколько видов таких конфликтов: конкурентное преследование коллективных интересов; реконструкция социальной, культурной или политической идентичности; конфликты, связанные с политической силой; конфликты, имеющие в основе защиту статусов или привилегий; конфликты, в основе которых лежит социальный контроль ключевых культурных образцов (Touraine, 1985: 751). А. Турен сводил появление новых социальных движений к формированию новых социальных конфликтов. В информационных обществах конфликты возникают по поводу власти для принятия решений, влияния и манипуляции, а индивидуальные и коллективные идентичности противостоят существующей конфигурации сил. Как пишет Н.Л. Полякова: «Другими словами, это конфликт между центральными и периферийными, или маргинальными, сегментами общества» (2009: 135). Теперь причиной социального конфликта являются не труд и капитал, конфликт возникает между властью, имеющей полномочия для принятия решений в экономической и социальной сферах, и теми, кто вынужден подчиняться правительственным решениям.
Французский ученый К. Касториадис объяснил появление новых социальных движений процессом бюрократизации общества, который обусловил иерархическое разделение между организаторами и исполнителями во всех сферах деятельности (Tranchant, 2021: 161). Всеобщая бюрократизация общества, включая семью, образование и досуг, породила новые формы борьбы с целью вернуть сферы деятельности, которые находились в процессе формализации и подчинялись абстрактной логике капиталистической организации (Tranchant, 2021: 162). Эта новая борьба и есть новые социальные движения. Он считал, что новые общественные движения поставили критику бюрократизации общества центральным вопросом своей деятельности. Впоследствии К. Касториадис утверждал, что социальная борьба выродилась из-за предполагаемого отказа новых социальных движений от какой-либо революционной перспективы и их приверженности либеральной логике требований защиты частных интересов. По его мнению, новые социальные движения утратили свое творческое измерение, ограничившись заявлениями о субъективных правах (Castoriadis, 2005).
Сегодня теория новых социальных движений подвергается критике по нескольким причинам. В частности, утверждается, что разрыв между старыми рабочими движениями с определенным набором характеристик и новыми социальными движениями не оправдан, поскольку многие из отличительных черт новых социальных движений имели решающее значение для мобилизации предшествующих движений. Очевидно, что характеристики новых социальных движений прослеживаются в движениях, существовавших до 1960-х гг. (Tilly, Wood, 2016: 85). Кроме того, теория сосредоточена на изучении левых движений, что способствовало исключению других социальных движений, например консервативных, из социологического анализа.
Напротив, французский ученый Ж.Ф. Лиотар анализировал отчуждение, деполитизацию и пассивность, а также влияние современной капиталистической экономики и экономического роста на мышление большинства левых активистов, столкнувшихся с сильным государством в контексте алжирской войны, когда коллективизм был вытеснен индивидуализмом, а классовая риторика – риторикой управления (Vega, 2011: 33). Для Э. Морена одной из особенностей майского кризиса было то, что Франция 1950-х и 1960-х гг. находилась на пути к социальному протесту (Atack, 1999: 13). Он указывает на то, что май сам по себе не был кризисом, но проявил кризис, скрытый в обществе. Для Э. Морена долгосрочные фундаментальные изменения, которые заложили события 1968 г., – это культурные и идеологические трансформации французского общества.
Важно отметить, что май 1968 г. положил конец господствующей буржуазной идеологии модернизации и прогресса. Послевоенные годы, включая период алжирской войны, были периодом веры в технологии, экономический рост и могущество Франции. Однако майский кризис показал хрупкость внешнего благополучия (Morin, 1986: 74).
Студенческие митинги в мае 1968 г. носили игривый, театральный характер, особенное место в них занимало переосмысление языка. Французский исследователь М. Серто принимал участие в событиях мая и июня 1968 г., он отразил происходившее в книге «Взятие слова» (La prise de parole), опубликованной в октябре 1968 г. (Giard, 1994: 8). М. Серто изучал события мая 1968 г. с точки зрения их символики и стремился интерпретировать смысл действия, отличающий этот опыт (Marcelino, 2019: 141). Понятия «символическое действие» и «опыт» являются центральными категориями анализа М. Серто. Они позволяют подчеркнуть ключевую роль символа, но также его связь с практикой. По мнению М. Серто, кризис системы представительства способствовал нарастанию общественного недовольства. Также в демонстрациях речь шла о «создании места, в котором возможна речь отвергающая, воссоздающая» (Certeau, 1994: 31). «Взятие слова» на самом деле означало не взятие власти, а перекомпоновку поля возможного, распространение возможности для высказываний всех граждан. М. Серто охарактеризовал майские события как «символическое действие, которое открывает брешь в нашей концепции общества» (Certeau, 1994: 34). Таким образом, автор предлагает рассматривать события 1968 г. как попытку конструирования нового общественного места, где каждый гражданин имеет право на высказывание.
В статье, датированной 1984 г., П. Шампань впервые предложил понятие «бумажный протест» для обозначения акций, цель которых состоит в том, чтобы воздействовать главным образом на репрезентацию, которую формирует социальное движение посредством прессы (Champagne, 1984: 22). Основной причиной данного типа протеста является потребность компенсировать дефицит активистов с помощью медиатизированного эха, обращенного к общественному мнению (в том виде, в каком оно транслируется СМИ и перед которым необходимо выгодно представить социальное движение). Условием для реализации и успеха «бумажного протеста» выступает наличие определенного типа культурного капитала, который заключается в информированности о существующих возможностях и ограничениях медиаформатов для быстрой адаптации к ним. Таким образом, успех социального движения в СМИ можно рассматривать как знак признания, оказанного им журналистами. Этот специфический культурный капитал «коммуникационного» типа проливает свет на принятые формы протеста. Согласно этой интерпретации, то, что объединяет различные варианты «нового активизма», – это не преемственность на временной оси, а способ привлечения участников (Mathieu, 2019: 267).
Важно отметить, что в действительности значимого обновления форм протеста не происходит: несмотря на зрелищность и медиатизацию, нетипичные формы действий участников социальных движений остаются в меньшинстве, в то время как забастовки, оккупации и протесты по-прежнему составляют основу деятельности общественных движений.
Как показал Л. Болтански в исследовании режимов участия в повседневной общественной жизни, социальные движения позволяют активистам достигать личных целей в ежедневной деятельности. Каждая организация социального движения не может существовать без более или менее постоянного коллектива, создание которого опирается на возможность хорошо провести время в компании единомышленников (Boltanski, 2012: 72). Несомненно, репертуар действий социального движения всегда был направлен на то, чтобы объединить публичное утверждение идентичности движения и консолидацию коллектива.
Если говорить о способе организации участников, традиционные социальные движения основывались на вертикальной иерархии, бюрократии и жесткости организационной структуры. Новые социальные движения, в свою очередь, характеризуются гибкостью и горизонтальностью связей между участниками, неформальным характером взаимоотношений между ними. Так, Ж. Ион и его коллеги предполагают, что группы активистов все чаще принимают форму гибких, ниерархизированных сетей индивидов (Ion et al., 2005: 52), в то время как Л. Жанно и С. Лерно назвали главу, которую они посвятили этому аспекту нового активизма, «Долой иерархию» (Jeanneau, Lernould, 2008: 197). Л. Болтански и Э. Кьяпелло предполагают, что нвые социальные движения начиная с конца 1980-х гг. стали опираться на сетевую форму организации (2011: 560).
Однако здесь нужно сделать следующее замечание. При дальнейшем рассмотрении новизна современных социальных движений становится менее очевидной. Феминизм после 1968 г. также отдавал предпочтение неформальным организационным связям (Mathieu, 2019: 271). Кроме того, изучение предполагаемых новшеств позволяет прийти к выводу, что их новизна проистекает из самой практики проведения демонстраций 1968 г. и свидетельствует о сохраняющемся недоверии к делегированию управления только представителям профсоюзных организаций (Leschi, 1996). Можно сказать, что отсутствие иерархии и поддержание неформальных связей между участниками современных социальных движений являются выражением внутреннего конфликта, который характерен для активистской деятельности. Важно, с одной стороны, создать эффективную организационную форму социального движения, с другой – исключить риск монополизации власти несколькими людьми (Corcuff, Mathieu, 2009: 69).
Итак, функционирование социального движения по принципу сети, неформальность организации, коллективное принятие решений на основе консенсуса – все это должно было бы способствовать свободному самовыражению каждого участника общественного движения и существенно тормозить любую монополизацию власти небольшой группой лидеров. Однако Д. Фримен указала, что неформальный характер американских феминистских групп никоим образом не спасает их от установления властных отношений1. Недостаточно провозгласить, что каждый участник может говорить, чтобы каждый чувствовал себя уполномоченным выражать свое мнение. В действительности в неформальных организациях участники склонны отдавать предпочтение людям, уже имеющим опыт в проведении акций и организации социальных движений, заставляя замолчать других, менее опытных участников. В подобных ситуациях предотвратить монополизацию власти оказывается еще труднее, поскольку она отрицается самой группой.
Благодаря лучшей способности ориентироваться в пространстве, а также опыту публичных выступлений и отстаиванию различных вариантов протестных действий на собраниях опытные активисты наделяются авторитетом, который мгновенно делает их лидерами в глазах новых участников социальных движений, даже несмотря на то что никакая демократическая процедура не сделала их легитимными представителями движения. Здесь речь идет не о том, чтобы осудить сознательное и преднамеренное присвоение ответственности и полномочий лидерами, жаждущими власти, а об эффекте, который производит декларируемая неформальная структура организации социального движения. Поскольку каждому предоставляется свобода самостоятельно устанавливать интенсивность и продолжительность своего участия, те, кто больше всего вовлечен в деятельность социального движения благодаря наличию мотивации, компетенции и времени, быстро оказываются на руководящей должности. Участники, чаще присутствующие и лучше информированные о развитии социального движения, становятся незаменимыми и постепенно берут всю ответственность на себя, тем самым приобретая больше возможностей для действий, чем рядовые участники манифестаций. Однако этот механизм не лишен двойственности: лидеры часто разрываются между желанием разделить свою ответственность и страхом, что разделение уменьшит их влияние или возможности для маневрирования, подвергая их критике со стороны других активистов, которые склонны критиковать автономизацию лидеров, но в то же время не всегда расположены браться за самые сложные активистские задачи.
Другим критерием новизны социальных движений выступает то, что предположительно сами активисты, их логика и формы протеста являются новыми. Участник социального движения, вовлеченный в группу, лишенную громоздкой иерархии, прежде всего защищает свою свободу мысли и действий (Ion et al., 2005: 82). При традиционных социальных движениях от участников требуется следовать за руководителями. Предполагается, что активность участника нового движения отличается от активности в традиционном движении. Вовлеченность активиста измерима, он самостоятельно распоряжается продолжительностью своего участия в акциях. Современный активист осторожен, отказывается поддерживать все позиции организации, определяет себя скорее сочувствующим движению, чем членом организации, и придерживается собственного мнения. Участники новых социальных движений непостоянны, они могут переходить от одного общественного движения к другому в соответствии со своими желаниями, убеждениями и возможностями. Новый участ- ник считается свободным активистом, в то время как старый активист рассматривается как зависимый от организации социального движения. Однако современные движения свидетельствуют о сосуществовании, а не о взаимозаменяемости двух профилей активистов (Mathieu, 2019: 275).
«Новый активизм» отличается, наконец, ограниченным набором проблем, которые он стремится решить. В то время как традиционные социальные движения подпитывали проекты социальных преобразований – особенно с революционной точки зрения, современные социальные движения показали себя гораздо более прагматичными. Речь больше не идет о том, чтобы «просить невозможного», и ясно, что новизна 1968 г. служит здесь фоном. Свидетельством этого является повторяющееся отрицание революционных амбиций. «Ожидание революции» стало «устаревшим» (Jeanneau, Lernould, 2008: 168). Ж. Ион так объясняет этот феномен: «Когда цель социальной трансформации оказывается переопределенной, способ действия становится центральным» (Ion et al., 2005: 5). Тезис о «самоограничивающемся радикализме» предлагает еще одну версию смещения с «традиционной» революционной точки зрения (Mouchard, 2002: 426). Различие между новым и старым проходит через другое противопоставление – между прагматизмом и догматизмом, относящееся к влиянию идеологий: «идеологии больше не популярны» (Jeanneau, Lernould, 2008: 15); наблюдается конец мета-нарративов, которые так долго ориентировали активизм (Рзаева, 2014: 25).
Став гораздо более рациональными, современные движения, предположительно, нацелены только на цели, находящиеся в пределах их досягаемости. Организация «Образовательная сеть без границ» (Le réseau éducation sans frontières – RESF)1 служит хорошим примером этого явления: активисты предпочитают бороться против исключения детей-иностранцев в каждом конкретном случае, а также помогают легализации отдельных семей без документов во избежание их депортации. При этом именно из-за ограничений, а не стратегического выбора активисты этой организации отдают приоритет защите конкретных семей. Перспектива глобальной трансформации иммиграционной политики не исключена из повестки дня социального движения точно так же, как серьезная переориентация жилищной политики выступает целью движения «Право на жилье» (Droit au lodgement – DAL)2. Для этого социального движения переселение в свободные квартиры и помещения является общественной формой действий, а не самоцелью. Реального изменения социальной политики добиваются те движения, которые призывают к конкретным реформам, например повышению минимальной оплаты труда. Если действия социальных движений ограниченны, то это прежде всего связано с неблагоприятным соотношением сил, а не со свободно выбранным «самоограничением». То же касается отношения к идеологиям, особенно к тем, которые предвосхищают революцию. Конечно, не все активисты современных движений ожидают радикального изменения политических и социальных структур, но вряд ли это что-то новое. В период после 1968 г. различные организации с революционными претензиями объединяли лишь небольшое число активистов, и их политическое влияние было незначительным (Mathieu, 2019: 276).
Активисты вынуждены ограничивать свои революционные амбиции и выражать надежды на социальные изменения под угрозой стигматизации. Взаимоотношения между новыми активистами и органами власти характеризуются неприятием идеологий и формальных структур, а также дистанцией от политики. Лидеры современной борьбы стремятся изолировать себя от политических партий и принимают конфронтационные отношения с государственными властями. Политика перестала быть продолжением борьбы активистов. Более того, вопрос о политической открытости все меньше воспринимается многими активистами, которые рассматривают свою деятельность как саму по себе достаточную.
Таким образом, несмотря на то что новые социальные движения способствовали возникновению нового теоретического подхода к их изучению, многие аспекты их новизны могут быть оспорены. Однако нельзя не признать тот факт, что 1968 год оказал длительное влияние на изменения в культуре и поведении французов. Социальные движения 1968 г. содействовали большему равенству в отношениях между мужчинами и женщинами, более свободному образу жизни и выбору собственной идентичности (Neveu, 2016: 23). Май 1968 г. внезапно открыл доступ к самовыражению и свободе слова большому количеству людей и групп. Истинным результатом стали победа культуры индивидуализма, приобретение большей свободы в сфере потребления и самовыражения (Яцино, 2012: 120). Помимо культурных аспектов, оспаривание устоявшегося распределения богатства и разделения труда в обществе, дебаты о том, каким могло бы быть справедливое государственное устройство, выступали неотъемлемой частью большинства мобилизаций 1968 г.
Именно поэтому, когда современные социальные движения выносят на политическую повестку дня вопросы, касающиеся регулирования финансовых потоков или организации справедливой международной торговли, многие из наиболее значимых общественных движений 2000-х гг. предполагают преемственность с 1960-ми.
Одним из результатов 1968 г. стало порождение поколения активистов, стойко настроенных вкладывать свою энергию в решение социальных проблем и новые мобилизации. Бывшие участники движений 1968 г. внесли свой вклад в глобальное движение за справедливость и другие социальные движения как во Франции, так и в других странах. Кроме того, 1968 год заложил основы для будущих социальных движений, которые в своей деятельности опирались на опыт майских протестов и демонстраций.
Список литературы Новые социальные движения во Франции как исторический феномен и социологическая концепция
- Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / пер. с фр. под общ. ред. С. Фокина. М., 2011. 974 с.
- Полякова Н.Л. Образ современных обществ в социологической теории конца XX – начала XXI в. // Вестник Московского университета. 2009. Сер. 18: Социология и политология. № 2. С. 128–143.
- Рзаева Р.О. Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и вызовов будущего // Вопросы философии. 2014. № 2. С. 23–29.
- Яцино М. Культура индивидуализма. Харьков, 2012. 280 с.
- Atack M. May 68 in French fiction and film: Rethinking society, rethinking representation. Oxford, 1999. 182 p.
- Boltanski L. Love and justice as competences. Cambridge, 2012. 340 p.
- Castoriadis C. The imaginary institution of society. Cambridge, 2005. 426 p.
- Certeau M. Une révolution symbolique. Paris, 1994. 776 p.
- Champagne P. La manifestation. La production de l'événement politique // Actes de la Recherche en Sciences Sociales.
- 1984. Vol. 52–53. P. 19–41.
- Corcuff P., Mathieu L. Partis et mouvements sociaux: des illusions de "l'actualité" à une mise en perspective sociologique // Actuel Marx. 2009. No. 46. P. 60–80. https://doi.org/10.3917/amx.046.0404.
- Germain F. For the nation and for work: Black activism in Paris of the 1960s // Migration and activism in Europe since 1945 / ed. by W. Pojmann. N. Y., 2008. P. 15–32.
- Giard L. Par quoi demain déjà se donne à naître. La prise de parole et autres écrits politiques. Paris, 1994. 278 p.
- Howell C. Regulating labor: The state and industrial relations reform in postwar France. Princeton, 1993. 308 p.
- Ion J., Franguiadakis S., Viot P. Militer aujourd’hui. Paris, 2005. 138 p.
- Jeanneau L., Lernould S. Les nouveaux militants. Paris, 2008. 256 p.
- Leschi D. Les coordinations, filles des années 1968 // Clio. Histoire, Femmes et Sociétés. 1996. Vol. 3. https://doi.org/10.4000/clio.467.
- Likin M. Human rights struggles in Twentieth-century France. The League of the rights of man and causes célèbres. Cham, 2022. 297 p.
- Marcelino D. Tempo do evento, poética da história: maio de 1968 segundo Michel de Certeau e Cornelius Castoriadis // História Da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography. 2019. No. 12 (30). P. 139 –169. https://doi.org/10.15848/hh.v12i30.1462.
- Mathieu L. Is the "new activism" really new? // Everyday resistance. French activism in the 21st century / ed. by B. Frère, M. Jacquemain. Cham, 2019. P. 263–280. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18987-7_11.
- Morin E. Mai 68: complexité et ambiguïté // Pouvoirs. 1986. No. 39. P. 71–79.
- Mouchard D. Les mobilisations des "sans" dans la France contemporaine: l'émergence d'un "radicalisme autolimité"? // Revue Française de Science Politique. 2002. Vol. 52-4. P. 425–447. https://doi.org/10.3917/rfsp.524.0425.
- Neveu E. The European movements of ’68: Ambivalent theories, ideological memories and exciting puzzles // Social movement studies in Europe. The state of the art / ed. by O. Fillieule, G. Accornero. N. Y., 2016. P. 21–37. https://doi.org/10.1515/9781785330988-005.
- Tilly C., Wood L.J. Social movements, 1768–2012. N. Y., 2016. 216 p.
- Touraine A. An Introduction to the study of social movements social research // Social Movements. 1985. Vol. 52, no. 4. P. 749–787.
- Touraine A. Le mouvement de mai ou le communisme utopique. Paris, 1968. 313 p.
- Tranchant T. Le peuple instituant et les nouveaux mouvements sociaux: actualité de la théorie du sujet politique de Cornelius Castoriadis // Politique et Sociétés. 2021. Vol. 40, no. 2. P. 159–185. https://doi.org/10.7202/1077873ar.
- Vega A. Socialisme ou Barbarie et le militantisme de Lyotard // Cités. 2011. Vol. 1, no. 45. P. 31 –43. https://doi.org/10.3917/cite.045.0031.