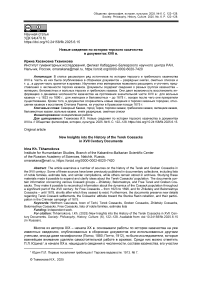Новые сведения по истории терского казачества в документах XVII в.
Автор: Тхамокова И.Х.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен ряд источников по истории терского и гребенского казачества XVII в. Часть из них была опубликована в сборниках документов – разрядных книгах, сметных списках и т. д., а другая часть хранится в архивах. Изучение этих материалов позволило расширить и уточнить представления о численности терских казаков. Документы содержат сведения о разных группах казачества – жилецких, беломестных и вольных терских и гребенских казаках. Они дают возможность восстановить информацию о динамике численности казачества на протяжении значительной части XVII в.: для вольных казаков – с 1623 по 1696 г., для жилецких и беломестных – до 1678 г., вскоре после чего они прекратили существование. Кроме того, в документах сохранились новые сведения о терских казачьих городках, отношении казаков к восстанию Степана Разина, их участии в Крымском походе 1675 г.
Северный Кавказ, город Терки, терские казаки, гребенские казаки, жилецкие казаки, беломестные казаки, вольные казаки, книги разрядные, сметные списки
Короткий адрес: https://sciup.org/149148201
IDR: 149148201 | УДК: 94(470.6) | DOI: 10.24158/fik.2025.6.15
Текст научной статьи Новые сведения по истории терского казачества в документах XVII в.
Институт гуманитарных исследований, филиал Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Нальчик, Россия, ,
Institute for Humanitarian Studies, Branch of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Nalchik, Russia, ,
Многие из авторов XIX – начала XX в. основывали работы по истории казачества на уже известных сведениях, опубликованных в сборниках документов или использованных другими учеными, иногда даже на мифологии (Попко, 1880; Потто, 1912), но были исследователи, которые важнейшее внимание уделяли самостоятельной работе в архивах. Среди них можно отметить П.Л. Юдина1, в начале XX в. нашедшего сведения о численности, составе казачества, его участии в событиях Смутного времени и т. д. (1911, 1912, 1914, 1915). В советское и постсоветское время С.А. Козлов изучал документы Архива древних актов, Архива внешней политики Российской империи, Архива Санкт-Петербургского института истории и т. д. Ему удалось обнаружить новые источники о времени появления казачьих станиц, числе их жителей, устройстве Терского казачьего войска и т. д. (Козлов, 2002). Неизвестные ранее документы по истории терского казачества содержатся также в монографии Н.Б. Голиковой (2004) и в изданном ею же сборнике документов о стрелецком восстании в Астрахани и Терках1.
Были и другие ученые, обращавшиеся к проблемам источниковедения казачества. Е.Р. Евдокимов в статье о составе служилых казаков в первой половине XVII в. привел данные и о терском казачестве в 1631–1651 гг. (2018: 84). Из других работ, опубликованных в последние годы, заслуживают внимания исследования Г.А. Малова (Малов, 2022; Малов, Никитин, 2023: 190–258). Он рассматривает документы Казенного двора за 1614–1623 гг. В них речь идет не только о терском, но также о донском, волжском и яицком казачестве. Основное содержание текстов – приезд в Москву казаков, получение ими жалования с указанием их заслуг.
Но и в настоящее время остается немало неисследованных исторических источников о терском казачестве. Основная проблема работы с ними заключается в том, что они рассеяны среди множества других документов, что увеличивает время на их выявление и изучение. Некоторые из этих текстов были давно известны, опубликованы и использовались историками других специальностей (не истории казачества). К их числу относятся, например, книги разрядные, которые содержат материалы о численности ратных людей в русских городах в 1620–1630 гг.2 Их применяли в работах специалисты, занимавшиеся изучением социальной структуры России. Но те, кто исследовал историю казачества, вероятно, долгое время считали, что казаки не входили в состав городских гарнизонов и поэтому сведения о них там найти невозможно. Однако в Терском городе казаков включали в состав местного войска, там они получали жалование, что позволяет установить их численность в 1620–1630 гг. Такого же рода источники – это сметные списки, содержащие сведения о численности терского казачества в 1631, 1651 и 1663 гг. среди других ратных людей города3. Сметные списки, опубликованные в 1910 и 1989 гг., использовал в статье Е.Р. Евдокимов (2018: 83, 84).
Об участии казаков в военных походах на Кавказе свидетельствует «Карамзинский хронограф», в котором переданы источники Смутного времени, в том числе об участии терских казаков (жилецких) в 1604 г. в военных действиях в Дагестане. Ранее этот источник не использовался историками терского казачества4.
Военные действия терского казачества в XVII в. не ограничивались Кавказом. В Архиве древних актов хранится документ об их участии (под командованием князя Каспулата Муцало-вича Черкасского) в походе на Крым в 1675 г., о численности и жаловании казаков5. Другие материалы по истории терского и гребенского казачества до настоящего времени не опубликованы и хранятся в архивах.
Документы XVI в. различали несколько групп казаков: терских жилецких и терских вольных казаков. Первые, как можно понять из источников, жили в городе или слободе рядом с ним, объединялись в приказы (как и стрельцы) и подчинялись не только своим атаманам, но головам приказов и терским воеводам. Они, видимо, были близки по статусу к служилым или городовым казакам того времени. Терские вольные казаки селились в отдельных небольших городках под властью собственных атаманов.
В конце XVI в. приказ терских пеших жилецких казаков возглавлял Григорий Полтев6. В 1589 г. он командовал военным походом в Кабарду против князя Шолоха. В его распоряжении тогда находилось 750 человек терских ратных людей1. Хотя в этом походе могли участвовать не только казаки, но и, например, стрельцы, численность казаков, видимо, была достаточно велика. Об этом свидетельствует существование особого казачьего приказа. Тогда же еще 50 терских казаков из этого приказа отправились сопровождать русских послов в Грузию2. В тот период казачьим головой был Василий Онучин, который служил в Сунженском остроге3. Жилецкие казаки также укрепляли этот острог, занимали перевозы через реки, чтобы не допустить нападения на послов, отправлявшихся в Грузию.
Больший интерес представляет «Карамзинский хронограф», который ранее также не упоминался историками казачества. Его документы говорят о том, что в 1604 г. в военном походе на дагестанский город Тарки принимали участие терские пешие казаки во главе с Иваном Петровым, сыном Хомякова4. Поскольку они упоминаются в описаниях этого похода, их, вероятно, было много. Скорее всего, они приняли участие в действиях первого периода этой кампании, но зимой вместе с другими терскими ратными людьми и терскими воеводами вернулись в Терский город. Казаков в данном случае уже называют не жилецкими, а просто терскими пешими.
В составе приказа Хомякова ходил в Тарки будущий самозванец «царевич Петр» – Илейка Муромец5, хотя он в свой «автобиографии» вспоминает этот приказ как стрелецкий. Однако не только в сообщении о походе на Тарки, но и в таких источниках, как изданные Н.И. Веселовским документы по истории русско-персидских отношений, этот приказ (в 1614 г.) назван казачьим, что, видимо, более соответствует действительности6. По возвращении из военной экспедиции терский воевода Петр Головин послал к казакам того же голову Хомякова, чтобы звать в Терки Илейку Муромца. Однако казаки не только не выдали его, но в своих стругах вышли в море7. Воевода просил их о том, чтобы для защиты города осталась хотя бы половина казаков, но безуспешно. Впоследствии казаки приняли самое активное участие в событиях Смутного времени вместе с Илейкой. С Терека они ушли на Волгу, затем на Дон, побывали в нескольких городах (Путивле, Туле). Какая часть из них осталась на Кавказе или вернулась туда позже – неизвестно. После сдачи Тулы войскам Василия Шуйского воевода В.И. Шереметев послал 8 астраханских стрельцов и терских казаков (Ивана Симанова и др.) в Астрахань и Терки с призывом к жителям этих городов «принести свою вину» перед царем. Они, однако, не доехали до Астрахани, их перехватили «воровские» казаки8. Вскоре после этого астраханцы и терцы все же «добили челом» и «целовали крест» Василию Шуйскому9.
Вопрос о том, какая часть казачества приняла более активное участие в событиях этого времени, остается открытым. Судя по тому, что казачьи группы в документах называют «войском», которое съехалось «из Юртов»10, это определение скорее относилось к вольному казачеству. Но и терские казаки принимали участие в данных событиях.
После окончания Смутного времени в Терском городе продолжали жить казаки. В тот период их называли пешими казаками, точная их численность неизвестна. В 20–30 гг. XVII в. в разрядных книгах число этих казаков прибавляли к численности пеших стрельцов и указывали в сметах их общее количество. Уже этот факт позволяет предположить, что число казаков было небольшим11. В некоторых случаях, как в 1636 г., а возможно, и чаще, эти казаки вместе с пешими стрельцами подчинялись одному общему голове – Фадею Волошенинову12.
Во второй половине XVII в. появляются сведения о терских беломестных казаках. В 1663 г., согласно документам, изданным Н.И. Веселовским, их было всего 9 человек. Они имели низкое жалованье – 4 рубля с полтиною на всех (значительно меньше, чем стрельцы, уздени или око-чане). Возможно, они пользовались земельными наделами, как беломестные казаки других городов, но точные сведения об этом не обнаружены13.
У беломестных казаков сохранялись свои атаманы. В 1664 г. это был, например, Ганка Разъярышин1. Вместе с другими ратными людьми Терского города он подписал челобитную царю Алексею Михайловичу из-за выплаты жалования медными деньгами вместо серебряных. Но, кроме того, что атаман терского беломестного казачества был грамотным человеком, о нем больше ничего не известно.
К 1678 г. общее жалование всех беломестных казаков составляло 8 рублей, 16 алтын и 4 деньги. На этом существование столь малочисленной категории ратных людей прекратилось. Им предложили записаться в стрельцы, а тем, кто этого не хотел, решено было жалованье не давать2. Об этом в свое время упоминал еще П.Л. Юдин. Он, однако, считал, что в Терках осталась служить другая группа казаков, но о численности или жаловании этих казаков никаких упоминаний в сметных книгах не сохранилось (Юдин, 1915: 98).
Снова группа терских казаков появилась только в XVIII в. Тогда их уже не называли беломестными. Они принимали участие в Персидском походе Петра I 1722 г., в их состав вошли стрельцы, солдаты и другие жители Терского города (Юдин, 1915: 105).
Наряду с терскими жилецкими или беломестными казаками на Северном Кавказе жили также терские и гребенские вольные казаки. Их всегда отличали от беломестных казаков, хотя и те и другие назывались терскими, выполняли поручения терских воевод и получали царское жалование. Однако вольные были более независимы, подчинялись выборным атаманам и могли отказаться от службы, если не получали жалования в срок. Воевода писал о них царю в 1601 г.: «А терские, государь, атаманы и казаки волные в провожатых с послы до щелей, не взяв твоего государева жалованья денежного и хлебного и зелья и свинцу, в поход не ходят…»3. Точная численность терского и гребенского вольного казачества в конце XVI – начале XVII в. неизвестна, в 1620-х гг. она была небольшой.
В 1623 г. в Терки был послан царский указ о выдаче жалования 30 атаманам и 470 рядовым казакам. В общей сложности, таким образом, их насчитывалось 500 человек. Однако это была, скорее всего, предварительно определенная для них цифра. Об этом уже свидетельствует ее точность. На следующем листе того же документа приведены совершенно другие данные: «а по терским окладным книгам ныне терских и гребенских казаков 220 человек»4. Таким образом, реальная численность казачества была намного ниже.
До недавнего времени была известна только численность казачества за несколько лет – 1631, 1632, 1651 (Евдокимов, 2018: 84), а также за 1623 и 1636 гг. (Козлов, 2002: 38–39). В настоящее время благодаря материалам из книг разрядных и сметных списков известно количество казаков еще за несколько лет, что позволяет составить более полное представление об этой группе. Соответствующие цифры приведены в таблице 1, составленной по источникам, как хранящимся в архивах5, так и опубликованным6.
Таблица 1 – Численность вольного терского и гребенского казачества в XVII в. 7
Table 1 – Number of Free Terek and Greben Cossacks in the 17th Century
|
Год |
Численность атаманов и казаков |
|
1 |
2 |
|
1623 |
220 казаков или 30 атаманов и 470 казаков |
|
1625 |
30 атаманов и 470 казаков |
|
1626 |
То же |
|
1627 |
– « – |
|
1628 |
40 атаманов и 310 казаков |
|
1630 |
220 казаков |
|
1631 |
То же |
|
1632 |
– « – |
1 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею : в 12 т. Т. 4. СПб., 1851. С. 416.
2 Окладная расходная роспись денежного и хлебного жалованья за 1681 г. (к истории государственных росписей XVII в.) / с предисл. А.Н. Зерцалова // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1893. Кн. 4. С. 50.
3 Русско-чеченские отношения … С. 43–44 ; Сношения России … С. 351.
4 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1631 г. Д. 1. Л. 107–108.
5 Архив СПбИИ РАН. Ф. 178. Оп. 1. Д. 12572. Л. 1 ; РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1631 г. Д. 1. Л. 107–108.
6 Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. : документы и материалы : в 2 т. / ред. Т.Х. Кумыкова, Е.Н. Кушевой. Нальчик, 1957. Т. 1. С. 121 ; Книги разрядные… Т. 1. С. 1141, 1248, 1354 ; Т. 2. С. 87, 286, 352, 741, 817, 920 ; Памятники дипломатических и торговых сношений … С. 42–43 ; Сметный список военных сил России … С. 24–25 ; Смета военных сил … С. 72.
7 Составлено автором.
Продолжение таблицы 1
|
1 |
2 |
|
1633 |
– « – |
|
1635 |
356 казаков |
|
1636 |
То же |
|
1651 |
440 казаков |
|
1663 |
380 казаков |
|
1678 |
500 казаков |
|
1694 |
То же |
В 1624–1627 гг. численность терских и гребенских казаков оставалась такой же, какой была (по одному из вариантов) в 1623 г., т. е. 30 атаманов и 470 казаков. Но, как уже говорилось, реальность этой цифры вызывает сомнения. В 1628 г. в Терках насчитывалось 40 атаманов и 310 казаков, но в 1630–1633 гг. число вернулось к прежним 220. Только в 1635–1636 гг. она стала вновь возрастать, составив 356 человек, т. е. почти столько же, сколько в 1628 г. На протяжении ряда лет количество терских и гребенских казаков оставалось одинаковым, но затем резко увеличивалось в течение одного года. Видимо, их перепись проводилась не ежегодно, а раз в несколько лет, т. е. за некоторые годы в списках были обозначены только приблизительные показатели. Возглавляли вольных казаков атаманы. В 1628 г., например, на 310 казаков приходилось 40 атаманов, т. е. на каждого атамана – 7–8 казаков, в 1623–1627 г., если верить спискам, на атамана приходилось в среднем 15–16 казаков.
В 1651 г. численность казачества достигла 440 человек. В последующие годы она сократилась – возможно, потому что персидские и дагестанские войска разгромили в начале 1650-х гг. около 10 казачьих городков – в отместку за ограбление купеческого каравана. В 1663 г. – 380 человек. Их среднее жалованье составляло всего 2 рубля в год, но за участие в военных действиях им выплачивали приблизительно столько же1, а иногда и больше, в зависимости от заслуг.
Согласно Окладной расходной росписи, изданной А.Н. Зерцаловым, терские и гребенские атаманы и казаки в 1678 г. получали такое же жалованье, как в 1663 г., – 2 рубля на рядового казака. Но их численность, если материалы росписи являлись точными, увеличилась до 500 рядовых казаков2. Хотя вопрос о том, отражает этот документ реальную или только запланированную численность казачества, остается открытым. В 1694 г. терские и гребенские вольные казаки тоже получали жалование на 500 человек3 (с той же оговоркой). Их оклад с 1663 г. почти не изменился, составляя около 2 рублей в год на человека.
Сохранились также документы, которые касаются отношения казаков к восстанию Степана Разина. Часть казаков поддержала восстание, как и жители Терского города. Однако многие терские и гребенские казаки выступили против. В 1672 г. в Москву прибыли гребенские казаки – челобитчики: атаман Данило Губин, есаул Тамило Леонтьев и рядовой казак Григорий Васильев. Они рассказали о том, что к восстанию гребенские казаки непричастны и «к терским жителям к ворам не приставали». Напротив, они пытались удержать тех от воровства и уговаривали не убивать воеводу, чего им и удалось добиться. «За приезд» в Москву этот атаман получил 10 рублей, камку и сукно английское, есаул – 9 рублей и тафту, а рядовой казак – 8 рублей и сукно (не считая поденного корма)4. Часть этого текста была напечатана в сборнике документов о восстании5, а часть до настоящего времени хранится в архиве.
В 1675 г. в Крымском походе князя Каспулата Муцаловича Черкасского принимали участие гребенские казаки, а из других жителей Терского города – мурзы, уздени, окочане, новокрещены, наряду с ними – астраханские стрельцы, жители Саратова и Уфы, а также калмыки и запорожские казаки. Это войско разгромило несколько «улусов» в северной части полуострова. Участники похода захватили пленных, освободили содержавшихся в плену русских, угнали скот и вернулись домой.
В этой экспедиции принимали участие казаки из 8 терских и гребенских городков – Верхнего и Нижнего Червленого, Аристова, Шевелева, Шадрина, Гладкова, Курдюкова и Яковлева6. Из названных городков большинство существовало в первой половине – середине XVII в. и уже упоминалось в документах и некоторых научных исследованиях. Первым появился городок Червленый – он был зафиксирован в документах 1628 г., в 1640-х гг. отмечены городок Ивана Шевеля, Курдюков городок, городок Ивана Шадра, в 1650–1653 гг. – Яковлев городок Артемьева (возможно, тот же, что и в 1675 г.), Аристов, Нижний Червленый (Козлов, 2002: 25; Тхамокова, 2017: 116–118). Единственный из городков 1675 г., о котором не найдены сведения в документах первой половины и середины XVII в., – Гладков, т. е. это, возможно, первое сообщение о нем. Кроме того, в 1675 г. могли существовать и другие казачьи городки, жители которых не приняли участия в походе.
Накануне Крымского похода атаманы гребенских казаков получили по 2 рубля, а рядовые казаки – по 1 рублю, 16 алтын и 4 деньги1. В этом походе должны были участвовать 100 гребен-ских казаков. После выхода из Астрахани их оставалось 95 или 96 человек2.
При отправлении с Дона в Крым их было только 40 человек – остальные потеряли лошадей и не могли двигаться дальше. После окончания похода казаки (теперь их осталось только 37) должны были получить (по царскому указу) по 4 рубля, что подтверждается документами3. Затем атаман гребенских казаков Федор Киреев, есаул Григорий Васильев (который в 1672 г. уже был на приеме у царя в статусе рядового казака) и казак Семен Дмитриев приехали в Москву. Атаман получил за приезд 10 рублей, есаул – 9 рублей, а также сукно и тафту4.
Изучение новых документов по истории терского казачества позволило значительно дополнить и расширить представления об их численности в динамике. Это относится ко всем группам казачества – как к жилецкому и беломестному, так и к вольному. Материалов по беломестному казачеству немного, что отчасти объясняется малочисленностью этой группы (9 человек в 1663 г.).
Если когда-то в распоряжении ученых были только данные о численности терского и гре-бенского вольного казачества всего за несколько лет, то теперь их стало намного больше. Она колебалась от 220 до 500 человек. Выше этого уровня она никогда не поднималась, даже в начале XVIII в. казаков этих групп было не более 500 человек, если иметь в виду только тех, кто служил в войске и получал царское жалованье.
Важным дополнением к имеющимся сведениям являются известия о жаловании казачества. Указано не только постоянное жалование беломестных и вольных казаков (оно было небольшим), но и крупные доплаты вольным казакам за участие в военных походах и поездки в Москву.
Документы содержат также сведения о терских казачьих городках второй половины XVII в., участии казаков в Крымском походе 1675 г., их отношении к восстанию Степана Разина. Источники включают и новые имена казаков, есаулов и атаманов, что также расширяет представления о них.