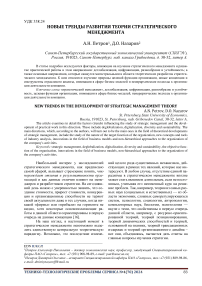Новые тренды развития теории стратегического менеджмента
Автор: Петров Александр Николаевич, Назаров Дмитрий Олегович
Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps
Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно исследуются факторы, влияющие на изучение стратегического менеджмента и развитие практической работы в этом направлении: деглобализация, цифровизация, разнообразие и устойчивость; а также основные направления, которые окажутся магистральными в области теоретических разработок стратегического менеджмента. К ним относятся изучение природы целевой функции организации, новые концепции и инструменты отраслевого анализа, инновации в сфере бизнес-моделей и неиерархические подходы к организации деятельности компании.
Стратегический менеджмент, деглобализация, цифровизация, разнообразие и устойчивость, целевая функция организации, инновации в сфере бизнес-моделей, неиерархические подходы к организации деятельности компании
Короткий адрес: https://sciup.org/148330235
IDR: 148330235 | УДК: 338.24
Текст научной статьи Новые тренды развития теории стратегического менеджмента
Наибольший интерес у исследователей стратегического менеджмента, как предписано самой сферой, вызывает стремление понять, что порождает отличия в результативности организаций и как данные отличия влияют на менеджеров и разработчиков стратегии. На сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что создание стоимости, прирост стоимости, конкуренция и организационные способности не теряют своей актуальности даже в тех случаях, когда никакой «фирмы» или «прибыли» на горизонте не видно, хотя некоторые основополагающие работы в данной области сориентированы в первую очередь на данные концепции [16].
На наш взгляд, в настоящий момент в стратегическом менеджменте невозможно выделить единственную центральную теоретическую парадигму. Возможно, это последствие измене- ний целого ряда существенных механизмов, действующих в рамках тех явлений, которые нас интересуют. В любом случае, отсутствие единой парадигмы в стратегическом менеджменте вполне может стать явлением длительным, если не постоянным, учитывая его неизменный курс на решение проблем. Так, например, теории из самых разных наук (социальных и естественных) — из области экономики, сложных саморегулирующихся систем, психологии, социологии, антропологии, компьютерных наук, биологии, политологии — вкупе с теми, что свойственны в первую очередь данной области, например, с ресурсно-ориентированной теорией, теорией позиционирования, теорией динамических способностей и теорией, основанной на знаниях, теорией трансакционных издержек и теорией организационного дизайна – все они, объединяясь, пытаются дать ответы на главные вопросы изучения стратегии.
EDN HJKGJI
Соответственно, если попытаться заглянуть в будущее данной области, вероятно, подход, сориентированный на явления, окажется более продуктивным, чем подход чисто теоретический. При этом уже можно утверждать, парадигмы стратегического менеджмента будут уточняться, поскольку меняется соответствующий ландшафт [2].
Отдельные тренды, влияющие на стратегический менеджмент, набирали силу последние лет десять, если не больше.
Первой среди них стала деглобализация , процесс, благодаря которому стали снова возникать препятствия для международной торговли, усложнив специалистам, товарам, инвестициям и услугам свободное пересечение границы и таким образом ограничив взаимозависимость стран [18]. Многие влиятельные в настоящий момент эмпирические и теоретические работы в области стратегического менеджмента создавались еще в ту эпоху, когда глобализация только набирала обороты. Технологические инновации в сфере транспорта и коммуникаций сделали глобализацию ощутимой, но отнюдь не неизбежной. Политические курсы разных стран должны согласовываться так, чтобы происходящие изменения способствовали глобализации. Так обстояли дела в политике после окончания Второй мировой войны, но гарантии, что так будет всегда, нет. Напряженные торговые отношения Соединенных Штатов и Китая, скорее всего, и впредь будут определять геополитику. Так же может продолжиться подъем национализма во многих уголках мира, отчасти в ответ на созданное глобализацией неравенство внутри страны.
Вторым важным трендом стало растущее осознание того, что устойчивость или долговечность мира природы, в котором мы живем, имеет значение, причем не только для стратегов, но и для фирм в целом. Большинство современных теорий в области стратегии негласно воспринимают как данность некий волшебным образом самообновляющийся мир, возлагая на разработчиков стратегии ответственность за создание правил, которые гарантируют защиту окружающей среды. Тем не менее уповать, что мер регулирования хватит еще и на это, становится все более наивно, так что стоит еще раз внимательно изучить основополагающие концепции стратегии, которые на данный момент сводятся к конкурентному преимуществу, ренте, экономической прибыли и взвешиванию интересов акционеров и стейкхолдеров. Стратегия устойчивости представляет собой подробный план фирмы по достижению экологической целостности, социального равенства и экономического благополучия [3]. Главные вопросы в ближайшем будущем, вероятно, будут связаны с тем, что сделает (или должна сделать) организация, будучи в состоянии действовать законным образом, чтобы соответствовать ожиданиям стейкхолдеров, но за счет устойчивости. Например, идея инвестировать в строительство потенциально прибыльной новой фабрики с приемлемым уровнем атмосферных выбросов может тем не менее встретить сопротивление некоторых стейкхолдеров из-за долгосрочных отрицательных последствий для окружающей среды. Как фирмам сбалансировать, казалось бы, противоположные требования со стороны акционеров и других стейкхолдеров, которые открыто признают, что защищают окружающую среду?
Третий главный тренд связан с цифровизацией – он подразумевает, что экономика все больше переходит в цифровой формат. Аднер, Пуранам и Чжу утверждали, что три базовых процесса – а именно, цифровое представление данных, увеличение возможностей подключения и накопление данных, – а также их взаимодействие играют ключевую роль в цифровой трансформации глобальной экономики. Они анализировали пример с цифровыми музыкальными записями. Первым значимым цифровым переходом в этой отрасли был переход от аналогового формата к цифровому. Они называют его представлением данных – если раньше звук существовал на физических носителях, например, на дорожках пластинки, то теперь на цифровых – в виде единиц и нулей. Этот сдвиг произошел с переходом отрасли от пластинок и кассет к компакт-дискам. Переход от компакт-дисков к MP3-файлам, распространяемым с помощью технологических платформ вроде iTunes стал сдвигом в возможности подключения, поскольку стало возможным получать доступ к музыкальному контенту через цифровую сеть. Третий переход, за которым мы наблюдаем сейчас благодаря сервисам вроде Spotify, сопровождается сдвигом в основном в накоплении данных. По их утверждению, примечателен здесь не столько стриминг (который является не более чем очередным изыском цифрового формата), а использование накопленных данных в соответствии с прошлыми запросами и рейтингами для проактивного индивидуального подбора записей для конкретного пользователя благодаря использованию продвинутой прогнозной аналитики и интеллектуального анализа данных (например, с помощью методов машинного обучения) [4].
Исследователи стратегии в таких вопросах явно держат ухо востро, а потому сумеют распознать, на какую музыку ложится это лаконичное либретто — здесь явно звучит мотив, богатый самыми разными темами вроде прорывных технологий, разрушения компетенций, амбидекстрии и инновационных бизнес-моделей, и всех их придется переосмыслить в цифровом контексте. Нужно ли дополнять наши нынешние познания в этих вопросах из-за каких-то уникальных свойств цифровых технологий? На определенном уровне беспрецедентных количественных изменений может случиться так, что последствия будут другими уже в качественном отношении. Вполне может случиться так, что амбидекстрия станет качественно другой проблемой, когда фирмам придется брать на вооружение не просто старые и новые бизнес-модели, а мириады новых бизнес-мо-делей одновременно.
Четвертый тренд сопряжен с растущим осознанием того, что разнообразие и инклюзивность являются важными пунктами повестки дня стратегов и лидеров. Все чаще придается особая значимость наличию у лидеров четко сформулированной программы того, как они намереваются повышать разнообразие и инклюзивность в своей организации. При этом рынки капитала, судя по всему, все эти меры впечатляют мало, по крайней мере в том, что касается разнообразия совета директоров. Так, например, в ряде американских государственных фирм повышение разнообразия совета директоров сопровождалось снижением рыночной стоимости (Конкурентное управление, 2024). Очевидно, инвесторы рассматривают повышение разнообразия как сигнал того, что фирмы не пытаются максимизировать акционерную стоимость. Так как же фирмам справляться с такой реакцией и даже избегать ее?
Чем бы ни считали меры повышения разнообразия в организации - особой разновидностью управления стейкхолдерами или просто этической нормой (и формой самопринуждения), крайне важно понимать, как они влияют на стратегии и их реализацию. Более общий подход к разнообразию и инклюзивности может выходить за пределы расовых и гендерных вопросов и учитывать также экономическое неравенство. С этим связан интересный тренд: об эгалитарных нормах чаще говорят работники из числа пост-миллениа-лов, которые, судя по всему, всегда рады найти неиерархические альтернативы традиционной бюрократии [14] и заставить своих работодателей устранить социальное неравенство [8]. Должны ли фирмы соответствовать таким ожиданиям? Есть ли у них выбор, если подобные ожидания начинают широко распространяться среди сотрудников?
На сегодняшний день главным фактором нарушения целостности работы фирм, повлиявшим на стратегию во всем мире, бесспорно, является пандемия COVID-19. Тем не менее многие ее последствия можно считать еще и усилением ранее существовавших трендов. Так, например, попытки ограничить распространение вируса привели к результатам, схожим с решением политиков ограничить потоки рабочей силы через границы государств. Параллельно потребность работать преимущественно в условиях дистанционного сотрудничества ускорила цифровизацию организаций.
Возможно, пандемия стала новым толчком к переосмыслению сразу нескольких вопросов, связанных с экологической устойчивостью. Ежедневные поездки на работу и с работы, как и командировки негативно влияют на экологию, хотя прежде мы мало об этом задумывались. Обнаружение, что на самом деле мы можем выполнять множество своих обязанностей, вообще никуда не выезжая, открывает возможности для более ответственного отношения к поездкам по работе. Также влияние пандемии подчеркнуло социальное неравенство и то, как далеко нам до инклюзивности, причем подчеркнуло неприятным и даже трагичным образом: частота заболеваемости и осложнений после болезни разнилась в зависимости от классов и экономических слоев населения. Даже такое, казалось бы, нейтральное явление, как удаленное сотрудничество, представляет значительный риск, поскольку подчеркивает неравенство в подборе сотрудников по полу. Как выяснилось, работая из дома, мужчины и женщины оказываются в совершенно разных условиях, поскольку на плечах последних лежит огромный груз - необходимость заботиться о семье и доме [17]. Существующее неравенство только обостряется в случае с богатыми и бед- ными, которых отличает даже базовая инфраструктура, необходимая для удаленной работы, например, наличие дома рабочего места или высокоскоростного подключения.
Пандемия не только подчеркивает уже отмеченные тренды, но и, разумеется, является потрясением, как бывает при любом классическом кризисе. Дифференциальное воздействие такого потрясения на разные отрасли, а также возможный подъем новых бизнес-моделей, призванных извлечь выгоду из разрушения прежних отраслей и компаний, а также из новых возможностей, еще долгое время будут занимать исследователей стратегии. Тема организационной устойчивости станет еще более актуальной. Более новые вопросы, интересующие исследователей, например, «гибкость», можно благополучно соединить с уже имеющимися направлениями работы (например, agile – подход) [9].
Исследователям стратегии открываются и другие значимые возможности, например, шанс использовать потрясение, вызванное пандемией, в качестве источника экзогенности для эмпирических испытаний. Впрочем, подходить к этому следует осторожно. Обычно вопрос о том, использовать ли природные катаклизмы в качестве источника экзогенности в эмпирических исследованиях, определяется допущением о том, что факторы, которые в одном месте вызвали катастрофу, а в другом — нет, никак не связаны с интересующими исследователя результатами [6]. Впрочем, как представляется, не поддающиеся наблюдению факторы, коррелирующие с распространенностью пандемии и ее влиянием на организацию, могут сильно коррелировать с результатами работы организации.
Можно говорить об этом увереннее, если максимально эффективно используем новые данные, создаваемые пандемией. Вынужденный переход к удаленному сотрудничеству создает кладезь данных о внутренних организационных процессах. Пока в исследованиях полагаются только на интервью, опросы и наблюдение за участниками, а их не так-то просто масштабировать. Для тех, кого интересует реализация стратегии, изменения в организации и организационный дизайн в более широком смысле слова, представляется уникальная возможность использовать все эти данные, чтобы действительно понять, как работают организации и как помочь им работать лучше.
Какие вопросы будут занимать исследователей с развитием стратегии при переходе от эмпирических явлений и трендов к их последствиям для теории? Как они отреагируют на вышеуказанные тренды?
Главной темой, от которой, судя по всему, никуда не деться, являются сомнения в основной целевой функции фирм. До сегодняшнего дня мы отталкивались от той версии данной функции, в которой почти не проявились элементы смежных областей, и мы спокойно полагали, что конечной целью является максимизация акционерной стоимости. Как уже отмечалось ранее, в случае с такими трендами, как повышение значимости устойчивости и/или цели на содействие разнообразию, данное утверждение оказывается под большим вопросом.
Правовые свойства фирмы, доктрины ограниченной ответственности и отказа от применения судебных мер, конечная подотчетность генеральному директору, заключение контрактов с сотрудниками и тот факт, что акционеров в первую очередь интересуют экономические вопросы, проистекают из конкретного культурного контекста. Это вовсе не вечные константы — по крайней мере, не такие как скорость света или постоянная гравитации. Так, например, выдвижение на первый план устойчивых инвестиций и увеличение объема инвестиций в социальные изменения явно демонстрирует, что существует как минимум подгруппа акционеров, которые уделяют внимание нематериальным свойствам акций, в которые они инвестируют, а не только финансовой прибыли и соответствующим рискам.
Важно, что это ничем не отличается от выбора между несколькими марками мыла, когда каждый покупатель принимает свое решение насчет того, насколько им важны чистящие свойства продукта по сравнению с его запахом, маркой и имиджем. Если акции начнут продавать и рекламировать так же, как мыло, а клиенты станут все больше заботиться о нефинансовых результатах, например, о сохранении окружающей среды и содействии социальному равенству, то даже предельная нацеленность на прибыль для акционеров не спасет лидеров фирмы от необходимости более широко взглянуть на результаты своих стратегий.
С этим связан еще один момент: на практике многие фирмы уже ведут себя так, будто акционерная стоимость – это ограничение, с которым приходится мириться, а не целевая функция. Этот вопрос неоднократно становился темой живых обсуждений во время недавних споров насчет корпоративного управления и его неудач, а также модификаций данного управления (переход от капитализма акционеров к капитализму стейкходде-ров) [1]. Теперь мы начинаем осознавать, что грамотные теоретические доводы в пользу максимизации акционерной стоимости не всегда являются грамотным принципом с точки зрения реальной хозяйственной практики.
Особенно убедительный довод приводится в одном из старых источников на тему прав собственности [11]. В случае с активами собственность (речь об остаточных правах претендентов на доход) должна оптимальным образом передаваться в руки агента, вложившего больше всего средств в совместное производство инвестиций. Подобное обоснование можно использовать, чтобы объяснить, стоит ли поставщику сырья приобретать покупателя из сектора переработки и торговли или же покупателю из сектора переработки и торговли – покупать поставщика сырья в рамках вертикальной диверсификации. Однако то же обоснование, судя по всему, можно применить и к вопросу о том, стоит ли поставщикам капитала (в виде наличности или человеческого капитала) становиться конечными претендентами на доход и собственниками фирмы [10].
Суть в том, что, если наличность или принятие риска станут товарными активами, то вряд ли акционерам стоит становиться конечными претендентами на доход. Они всегда будут таковыми, однако в том случае, если они становятся товарными активами, нет ни единой очевидной причины, по которой их интересы должны ставиться выше интересов других стейкхолдеров, например, квалифицированных сотрудников, жилых районов по соседству с производственными объектами и даже государства. Недавно полученные результаты развития ресурсно-ориентированного подхода признают эти и другие — связанные с ними — доводы и уже начинают расширять знакомую нам концепцию целевой функции фирмы, как минимум для увеличения соответствующей совокупности конечных претендентов на доход. Так, например, Барни и Маки [7] следующим образом подводят итог подобным доводам: «Чтобы стейкхолдеры захотели предоставить фирме ресурсы, способные генерировать прибыль, фирма должна быть готова поделиться с ними некоторыми выгодами, которые данные ресурсы помогают создать». Это указывает на важнейший момент — что среди всех стейкхолдеров в приоритете далеко не всегда должны оказываться интересы акционеров.
Вторая волна теоретических доработок будет связана, вероятно, с набором инструментов и принципов, которыми мы в настоящий момент пользуемся для проведения отраслевого анализа. В своем эссе на тему цифровизации и стратегии Аднер и др. [4] утверждали, что нынешний прогресс цифровой революции наверняка потребует нового понятийного аппарата. Помимо ресурсов, способностей, трансакционных издержек и конкурентных сил, включая деятельность компле-ментеров, цифровизация может потребовать осознания базовых драйверов, таких как представление данных, возможность подключения и накопление данных. Кроме того, скорее всего, возникнут и другие, вероятно, даже более утонченные способы осмысления рынков и бизнес-возможно-стей. Актуальной единицей анализа может стать микросегмент со своим собственным механизмом конкуренции и требованиями к ресурсам, а значит, каждая фирма благополучно становится диверсифицированной многопрофильно компанией, а любая стратегия в конечном счете является корпоративной стратегией [15].
Особый интерес представляют инновации в бизнес-моделях . Как отмечают Амит и Зотт, под инновациями бизнес-моделей (ИБМ) понимается введение новой системы независимой деятельности на продуктовом рынке, где конкурирует фокусная фирма. Приведет ли разработка бизнес-мо-делей, реагирующих на цифровизацию, или повышение планки в том, что касается стремления к устойчивости, разнообразию или инклюзивности, к качественном новым проблемам? Если да, то к каким? Амит и Зотт обращают внимание на проектный подход к бизнес-моделям, уточняя, что при выборе бизнес-модели, учитывающей конкурентные силы, всегда есть возможность для стратегической изобретательности [5].
В целях соразмерности могут понадобиться новые концепции ресурсов и способностей . Так, например, данные как ресурс, несомненно, не способствуют соперничеству: то, что их использует кто-то один, не мешает остальным также пользоваться ими (так происходит с большинством информации). Вот только как быть когда данные становятся основой конкурентного и корпоративного преимущества? Вопросы владения и повторного использования в случае с данными куда актуальнее, чем в случае с остальными ресурсами. Так, например, хотя данные и алгоритмы являются ресурсами, их копирование на качественном уровне отличается от передачи данных между людьми. С одной стороны, взаимосвязанность – проблема при переведении знаний из одного контекста в другой – при копировании цифрового контента может оказаться менее актуальной. С другой стороны, взаимосвязанность может оказаться куда более значимым свойством, когда люди пытаются понять обоснование алгоритмов использования данных для принятия решений. Многие передовые методы машинного обучения (искусственный интеллект) не обеспечивают подобного понимания причинно-следственных связей. По нашему мнению, это проистекает из того, что прогнозную точность они обретают благодаря применению к данным сложных нелинейных моделей, поэтому их довольно трудно истолковать или объяснить. Взаимозаменяемость ресурсов – еще одна концепция, занимающая центральное место в осмыслении корпоративной диверсификации с точки зрения стратегии. Цифровые активы часто используются так, что их стоимость на разных рынках почти не снижается. Это значит, что с учащением случаев внешне несвязанной диверсификации границы отрасли размываются (например, развитие корпоративного портфеля Amazon).
Из-за некоторых новых трендов в области деглобализации и цифровизации дихотомическая граница рынка и иерархии становится, пожалуй, еще более бесполезной. Сторонники теории трансакционных издержек оказали колоссальное влияние на стратегический менеджмент, предложив теоретическую систему, которая позволяет понять, когда те или иные виды деятельности отдаются на аутсорсинг, вместо того чтобы проводить их внутри фирмы. Тем не менее и в лучшие времена для дихотомии фирмы и рынка в стратегии Хеннарт отмечал наличие «раздутой середины», а было это почти тридцать лет назад [13]. Говоря об этом, он имел в виду, что с эмпирической точки зрения, экономическая деятельность гораздо чаще организовывалась и не внутри фирмы, и не на спот-рынках, а в рамках имплицитных контрактов. Подобное «раздутие» оказалось далеко не временным явлением, и на данный момент нет никаких признаков его исчезновения.
Также может показаться, что такие формы организации — не фирмы, не рынки (особенно, как показывает практика, для цифровых форматов) — сохранятся надолго. Интерес к платформам и экосистемам, скорее всего, останется на высоком уровне, а кроме того, к нему добавится интерес к онлайн-сообществам, которые предлагают шаблон для некоторых видов разрозненного сотрудничества даже в коммерческом секторе [14]. В «мета-организациях», какими бы разными они ни были, юридически автономные субъекты (лица или фирмы) тем не менее слаженно действуют, не прибегая к официальной власти вроде той, что указана в договорах о найме [12].
Заключение
Деглобализация, цифровизация, разнообразие и устойчивость являются четырьмя трендами, которые, скорее всего, повлияют на изучение стратегического менеджмента и развитие практической работы в этом направлении. Было бы безответственно пытаться предвидеть все возможные теоретические изменения, которые могут спровоцировать данные тренды, однако можно выявить несколько областей, которые почти наверняка окажутся в центре теоретических разработок.
К таким областям теоретических разработок относится природа целевой функции организации, потребность в новых инструментах и концепциях отраслевого анализа, инновации в сфере бизнес-моделей, ресурсов и способностей, а также потребность учитывать альтернативы иерархии в качестве шаблона для организации нерыночного сотрудничества. Для исследователей стратегии наступило чудесное время — в их распоряжении оказалось огромное полотно, которое только предстоит раскрасить, а возможности для совершения значимого прорыва в этих и других областях кажутся просто безграничными!
Список литературы Новые тренды развития теории стратегического менеджмента
- Корпоративное управление: учебное пособие / А.Н. Петров. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2024. - 438.
- Стратегический менеджмент: в поисках новой парадигмы / А.Н. Петров. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 345.
- Стратегическое проектирование: учебное пособие / авт. колл. А.М. Аронов и др.; под ред. А.Н. Петрова. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023. - 264
- Adner R, Puranam P, Zhu F. 2019. What is different about digital strategy? From quantitative to qualitative change. Strategy Science 4: 251-342.
- Amit R, Zott C. 2021. Business Model Innovation Strategy. In Strategic: Management State of the Field and Its Future, Duhaime IM, Hitt MA, (eds). Oxford University Press: New York, NY; 679-697.
- Angrist JD, Pischke JS. 2008. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion. Princeton University Press: Princeton, NJ.
- Barney JB, Mackey A. 2021. What would the field of strategic management look like if it took the stakeholder perspective seriously? In Strategic Management: State of the Field and Ins Future, Duhaime IM, Hitt MA (eds). Oxford University Press: New York, NY; 663-678.
- Bode C, Singh J. 2018. Taking a hit to save the world? Employee participation in a corporate social initiative. Strategic: Management Journal 39(4): 1003-1030.
- Conboy K. 2009. Agility from first principles: reconstructing the concept of agility in information systems development. Information System Research 20(3): 329-354.
- Duhaime, I.M., Hitt, M.A., Lyles, M.A. (2021). Strategic Management. OXFORD University Press.
- Grossman S, Hart O. 1986. The costs and benefits of ownership: a theory of vertical and lateral integration. Journal of Political Economy 94(4): 691-719.
- Gulati R, Puranam P, Tushman M. 2012. Meta-organization design: rethinking design in inter-organizational and community contexts. Strategic Management Journal 33(6): 571-586.
- Hennart JF. 1993. Explaining the swollen middle: why most transactions are a mix of “maker” and “hierarchy”. Organization Science 4(4): 529-547.
- Puranam P, Alexy O, Reitzig M. 2014. Whist’s “new” about new forms of organizing? Academy of Management Review 39(2): 162-180. Doi:10.5465/amr.2011.0436.
- Puranam P, Vanneste B. 2016. Corporate Strategy: Tools for Analysis and Decision. Cambridge University Press: Cambridge, U.K.
- Rumelt R, Schendel DE, Teece D. 1994. Fundamental Issues in Strategic Management: A Research Agenda. Harvard Business School Press: Boston, MA.
- Seitz BM, Aktipis A, Buss DM, Alcock J, Bloom P, Gelfand M, Harris S, et al. 2020. The pandemic exposes human nature: 10 evolutionary insights. Proceedings of the National Academy of Sciences 117(45): 27767-27776.
- Witt M. 2019. De-globalization: theories, predictions, and opportunities for international business research. Journal of International Business Studies 50: 1053-1077.