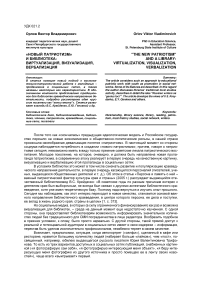«Новый патриотизм» и библиотека: виртуализация, визуализация, вербализация
Автор: Орлов Виктор Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 21, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье освещен новый подход к воспитательно-патриотической работе с молодежью -продвижение в социальных сетях, а также названы некоторые его характеристики. В обозначенном контексте представлено традиционное для библиотек краеведческое направление деятельности, подробно рассмотрена идея «русские писатели как “гении места"». Статья развивает взгляды В.С. Крейденко, ЕЮ. Гениевой и др.
Библиотечное дело, библиотековедение, библиотека, чтение, патриотизм, краеведение, социальные сети, писатели
Короткий адрес: https://sciup.org/14937846
IDR: 14937846 | УДК: 021.2
Текст научной статьи «Новый патриотизм» и библиотека: виртуализация, визуализация, вербализация
После того как «скончалась» предыдущая идеологическая модель и Российское государство перешло на новые экономические и общественно-политические рельсы, в нашей стране произошла своеобразная девальвация понятия «патриотизм». В настоящий момент со стороны социума наблюдается потребность в создании «нового патриотизма»; причем, говоря о патриотизме сегодня, невозможно иметь в виду только прежние советские лекала патриотического воспитания. Молодое поколение, на которое, очевидно, и должна быть направлена новая пропаганда патриотизма, в современную эпоху реагирует в первую очередь на качественную картинку, визуализацию и вербализацию этой пропаганды в социальных сетях.
В условиях библиотек это может в том числе означать развитие и популяризацию краеведческого направления деятельности, в первую очередь касающегося персоналий (писателей, ученых, выдающихся общественных деятелей и т. д.). Об этом в статье «Персона и память о ней – важный патриотический фактор культуры края и страны» (2005 г.) рассуждает выдающийся отечественный библиотековед В.С. Крейденко: «В советские годы по разным причинам интерес к деятелям края был выборочным, не всегда был связан с другими аспектами библиотечного краеведения, хотя уже имел теоретическую базу. Поэтому надо вернуться и изучать опыт прошлого. Сегодня мы наблюдаем, как этот интерес переходит в новое качество, становится основой важного направления библиотечного краеведения, в центре которого персона, ее дела и поступки, ее вклад в жизнь родного края, страны в целом» [1, с. 373].
Но социальные медиа, в которых (в силу ограниченного финансирования) как раз и возможна визуализация для библиотек, – среда на данный момент еще недостаточно изученная. С одной стороны, она предоставляет библиотекарям возможность информировать значительное количество людей без традиционного для СМИ посредничества в лице редактора. Вообразить подобное в прежних условиях, к слову, было просто нереально. С другой стороны, такой прямой доступ к реальной и потенциальной аудитории в социальных сетях имеет и свои издержки – информация, перестав быть уделом исключительно профессионалов, неизбежно теряет в своем качестве.
Возникает, предположим, ситуация, когда автопортрет («селфи»), сделанный в кафе или ресторане, нравится большему количеству людей (набирает больше «лайков»), чем «пост», посвященный, например, юбилею выдающегося русского писателя Юрия Валентиновича Трифонова. То есть из трех вариантов доступных в социальных сетях публикаций, снабженных картинкой («я фотографирую сам себя», «я фотографирую интересующий меня объект», «я беру интересующую меня фотографию из другого источника и просто помещаю ее в ленту своих новостей»), чаще всего «выигрывает» первый.
Еще одной особенностью социальных сетей является их острая и быстрая реакция на «модных» авторов и «модные» темы и замедленная реакция на авторов и темы «немодные». Также многие пользователи признаются, что в некоторых социальных сетях ставят «лайки» автоматически, мельком просматривая предлагаемые обновления – в таком случае общий эффект от такого псевдоинформирования вряд ли будет очень высок. Однако, на наш взгляд, библиотечные «аккаунты» в социальных медиа должны нести все признаки других «аккаунтов» – здесь не нужно бояться заимствования и изобретать велосипед, необходимо просто взять самое лучшее. Следует просто учитывать все преимущества, недостатки, характерные черты и риски этого нового океана визуальной и текстовой информации.
Одним из возможных культурных трендов пропаганды «нового патриотизма» через приобщение к чтению является направление, которое условно можно назвать «русские писатели как “гении места”». В подобном ключе выдержана статья «Литературная биография территории» за авторством к великому сожалению недавно от нас ушедшей Е.Ю. Гениевой. Екатерина Юрьевна, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, раскрывает опыт библиотеки иностранной литературы по налаживанию «партнерства с российскими библиотеками, в том числе по раскрытию ценности культурного наследия территорий, на которых они организуют свою деятельность, и его пропаганде как в России, так и за рубежом» [2, с. 152]. «Важную роль в этом процессе играют программы и проекты, направленные на поддержку книг и чтения, в первую очередь среди молодежи» [3, с. 152]. Опять возникает эта триада – «молодежь – библиотека – патриотизм».
Далее разговор хотелось бы продолжить на примере двух литераторов, к именам которых нас обратил 2015 год. Первый из них – поэт Иосиф Бродский, которому в нынешнем году исполнилось бы 75 лет. При всей сложности взаимоотношений с большой Родиной (одни считают его крупным имперским поэтом, другие – западником и чуть ли не безродным космополитом) Иосиф Бродский всегда оставался патриотом Петербурга. Попытка приватизировать той или иной литературной или политической группировкой такое сложное явление культуры как Бродский как раз и разбивается о его многогранность. Так, писатель Захар Прилепин, например, всегда будет цитировать явно «государственнические» стихи «На независимость Украины» или «На смерть Жукова», а поэт Дмитрий Быков восторгаться «Письмами римскому другу» или «Пятой годовщиной». Но и то и другое – Бродский.
В 2015 г. в малой серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Владимира Бондаренко «Бродский. Русский поэт», которая является своеобразным отражением (говоря языком поэзии – рифмой) другой биографии Бродского, также вышедшей в «ЖЗЛ», написанной другом поэта Л. Лосевым [4]. Соотношение подходов по их удельному весу примерно равно объему самих книг; однако версию В. Бондаренко необходимо положить на вторую чашу весов – против традиционного «западного» со всеми его плюсами и минусами подхода к жизнеописанию пятого нобелевского лауреата в истории русской литературы. Ведь факт остается фактом – при всех известных обстоятельствах жизни в СССР Бродский не желал мазать дегтем ворота вскормившей его Империи и выставлять себя жертвой советского режима. Более того, несмотря на явную аллергию на социализм как общественную систему, поэт выражал очень сдержанный оптимизм по поводу прихода в Россию так называемого капитализма, высказанный, например, в одном из последних видеоинтервью в Венеции.
Понимание величия России как империи (прежде всего, конечно, через величие ее языка) сквозит в эссе и стихах Бродского – имперские чувства никогда не были ему чужды. Побывав в местах высылки Бродского в Норенской и Коноше, явственнее понимаешь, почему поэт, несмотря на всю сложность отношения к Империи, никак не мог избежать любви к ней. Ведь это – самое сердце России, можно сказать, квинтэссенция ее природы, ее воистину бескрайних просторов.
В литературоведении обычно проводятся параллели с Робертом Фростом и его постижением метафизической сущности американского Севера. Для нас сейчас уже не так важно, кем больше воображал себя Бродский в Норинской – Робертом Фростом или Робертом Лоуэллом. Важно другое – в Архангельской области написаны «апокрифические» для Бродского стихи «Тракторы на рассвете», «Мой народ» и др., которые невозможно вычеркнуть из творчества классика русской литературы. Здесь же, по воспоминаниям самого Бродского, произошло настоящее озарение – поэт пережил чувство единства со своим народом и своей страной, когда вставал ранним утром и шел на сельскохозяйственные работы. Величайшим счастьем человека является это чувство осознанного единения с Родиной, принятия ее многовековой тяжелой истории и своей непростой судьбы в этой истории.
Конечно, не стоит идеализировать ситуацию – Бродский приехал на Север не для того, чтобы поправить физическое и психическое здоровье вдали от городской суеты, он был сюда выслан и прибыл в «столыпинском» вагоне. Однако не стоит рассматривать этот период его жизни исключительно как суровый и страшный, превративший романтично настроенного юношу-поэта в скептика и циника, вооруженного иронией.
Перемещения были одной из страстей поэта, потому условных «мест Бродского» на карте мира довольно много – Венеция, Флоренция, Стокгольм, Амстердам, Рим, Вильнюс, Дублин. Но все они были дороги ему в том числе как отражение Петербурга. Например, «Набережная неисцелимых» – о чем она? О самом Бродском, о Венеции или о Петербурге? Вернее – о Ленинграде, который проглядывает там из всех каналов и дворов. Мысль поэта постоянно возвращалась в серый северный цвет родной Балтики, хоть сам он мог и не признаваться в этом. Не есть ли это столкновение с Венецией, выдуманной в Ленинграде в реальности, и ее плавное превращение в Петербург, выдуманный в Венеции? И то, и другое было равно недоступно. Но, осознав крушение образа выдуманной Венеции, поэт всё равно полюбил то, что оказалось Венецией реальной. И любовь настоящая оказалась прочнее любви вымышленной. Однако привязанность к Ленинграду как к главному городу большей части своей жизни Бродский все равно не утратил, пронеся ее через все свое существование.
Поэтому оправданно будет воспользоваться в контексте данного разговора возможно «заезженным», но точным оборотом «гений места». Бродский – «гений места» Петербурга. Однако именно в Коношской центральной районной библиотеке имени Иосифа Бродского уже больше года открыто и действует абсолютно современное, европейского уровня музейное пространство, рассказывающее о пребывании поэта в северной ссылке. Увидеть такой музей в музейных столицах мира, в Берлине или Амстердаме – обычное дело, в Коноше – неожиданно и вдвойне приятно.
Перед зданием библиотеки располагается блистательная инсталляция выдающегося музейного художника В. Быстрова. В амбициозных планах директора библиотеки использовать в оформлении библиотечного здания граффити и так далее. Немым укором это выглядит Петербургу, который так и не смог пока сделать полноценный музей в Доме Мурузи – историческом здании, в котором великий поэт прожил большую часть своей недолгой жизни.
В каждом регионе нашей страны есть свои «гении места». Например, в Москве – Юрий Трифонов, в Восточной Сибири – Валентин Распутин, в Архангельске – Федор Абрамов и т. д. В Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова функционирует Мемориальный кабинет Федора Абрамова – подлинная изюминка и без того интересного и насыщенного библиотечного пространства.
Мы не должны забывать о крупнейших мастерах деревенской прозы – самого, может быть, аутентичного и своеобразного явления русской литературы ХХ в., которая сегодня, увы, несправедливо вытеснена с книжных прилавков и из сознания читателя более модной литературой. В этом смысле важно отметить, что МБУК Харовская ЦБС недавно получила имя еще одного крупнейшего представителя этого направления – Василия Ивановича Белова. В соседней Вологде областная юношеская библиотека носит имя Владимира Федоровича Тендрякова. Увековечивание имен писателей в названии библиотеки – важнейшая тенденция для развития патриотизма. Да и кому, как ни библиотекам, этим заниматься? Создание мемориального объекта вместо безымянной, казенным образом названной организации – дело подлинно важное и очень полезное.
Отдельного упоминания заслуживает колоссальная работа, проведенная и представленная на официальном сайте Вологодской областной универсальной научной библиотекой имени И.В. Бабушкина. Исследование посвящено поэтам – уроженцам вологодской земли, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Среди них такие значимые для русской литературы ХХ в. имена, как Александр Яшин и Сергей Орлов.
Великая Отечественная война – отдельная тема для воспитания патриотизма. Поэзия и военное дело вообще прочно увязаны в нашей истории – достаточно вспомнить Дениса Давыдова или Михаила Лермонтова. Но уникальное поколение советских военных поэтов, по сути, было последней плеядой русской интеллигенции, аристократов духа, которые в авангарде российской армии шли умирать за Родину. Многие из них не вернулись – назовем хотя бы Николая Майорова, блистательного поэта, автора хрестоматийных стихотворений «Август» и «Мы», погибшего в возрасте 22 лет. Или Семёна Гудзенко, умершего в тридцатилетнем возрасте от последствий боевых ранений. Кто знает, до каких поэтических высот им суждено было добраться, если бы их жизненный путь не оборвался столь трагично и рано?
Говоря о патриотизме, невозможно не коснуться еще одного «гения места» – великого русского писателя Валентина Распутина, который в 2015 г. закончил свой земной путь и начал жизнь вечную. Бродский и Распутин – казалось бы, два полюса русской литературы ХХ в. «Деревенщик» и городской житель, консерватор и либерал, почвенник и «безродный космополит», наконец, поэт и прозаик – но между ними больше общего, чем можно предположить.
И первое – любовь к родине и русский язык. Можно взять на себя излишнюю смелость и сказать, что они писали с разных сторон, но об одном и том же. Так, современные критические статьи на повесть Распутина «Живи и помни» мало чем отличаются от послесловия советского литературоведа А. Дырдина к изданию двадцатипятилетней давности, где «Живи и помни» рассматривается как социальный конфликт. Но если так, то почему повесть интересна сейчас, когда мы живем в совершенно другом обществе? Нет, книга эта, как и вся большая литература, о вечном – о выборе и мужестве, о подлости и благородстве, о любви и смерти.
В 2015 г., который одновременно стал юбилейным годом Иосифа Бродского и годом окончания целой эпохи отечественной литературы – эпохи писателя Валентина Распутина, проблемы национальной самоидентификации звучат особенно остро. Национализм и даже самые радикальные его проявления возникают в социуме тогда, когда политики уже не в состоянии консолидировать общество. Печальных примеров много. Поэтому сегодня нам необходимо искать то, что нас объединяет, – это и будет «новым патриотизмом».
В этом смысле русский язык – то немногое, что может объединить все уголки нашей огромной страны. И самых ярых почвенников, и глядящих на Запад либералов, и рабочих, и «креативный» класс, который на самом деле ничего не создает. Любовь к стране необходимо воспитывать через литературу, через любовь к чтению и русскому языку.
Ссылки
-
1. Бондаренко В.Г. Бродский: Русский поэт. М., 2015. 444 c.
-
2. Гениева Е.Ю. Литературная биография территории // Школьная библиотека. 2015. № 8–9. С. 152–155.
-
3. Там же.
-
4. Крейденко В.С. Избранные труды / общ. ред. А.Н. Ванеева. СПб., 2015. 419 с.
Список литературы «Новый патриотизм» и библиотека: виртуализация, визуализация, вербализация
- Бондаренко В.Г. Бродский: Русский поэт. М., 2015. 444 с.
- Гениева Е.Ю. Литературная биография территории//Школьная библиотека. 2015. № 8-9. С. 152-155.
- Крейденко B.C. Избранные труды/общ. ред. А.Н. Ванеева. СПб., 2015. 419 с