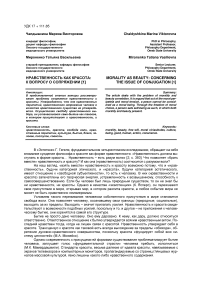Нравственность как красота: к вопросу о сопряжении
Автор: Чалдышкина Марина Викторовна, Мироненко Татьяна Васильевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2016 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье авторы рассматривают проблему сопряжения нравственности и красоты. Утверждается, что вне нравственных перипетий, нравственного напряжения человек в качестве нравственного существа не утверждается. Осуществляя свободу нравственного выбора, он устанавливает само-бытие как таковое, в котором присутствуют и нравственность, и красота.
Нравственность, красота, свобода воли, нравственные перипетии, культура, бытие, благо, человек, поступок, совесть
Короткий адрес: https://sciup.org/14940742
IDR: 14940742 | УДК: 17
Текст научной статьи Нравственность как красота: к вопросу о сопряжении
В «Эстетике» Г. Гегеля, фундаментальном четырехтомном исследовании, обращает на себя внимание суждение философа о красоте как форме нравственности. «Нравственность должна выступать в форме красоты… Нравственность – есть разум воли» [2, с. 360]. Что позволяет «брать вместе» нравственность и красоту? И как она (нравственность) соотносится с разумом воли?
На наш взгляд, «взять вместе» нравственность и красоту возможно потому, что и «нравственность», будучи категорией этического, и «красота», будучи категорией эстетического, имеют отношение к «свободной субъективности», то есть к человеку. В них (нравственности и красоте) запечатлены его творческая энергия, устремленность к возвышенному, способность к самосовершенствованию. Если бы человек был лишь природным существом, то он не знал бы ни нравственности, ни красоты. Однако в качестве «экзистенции» (К. Ясперс), он переживает свое присутствие в мире, открывая мир, в котором разлита красота, а любое событие мира не может не быть нравственно неизмеримым.
Условием такого переживания человеком собственного присутствия в мире становится свобода воли. Она позволяет человеку, осознавшему свои границы (природные, социальные), выходить за их пределы. Выходить – значит прилагать усилия. Нравственность и красота свидетельствуют о возможности подобных усилий, поскольку и то, и другое – не приложения к человеческому бытию, они коренятся в самой его структуре.
Бытие не просто дано человеку. Оно ему даровано. К нему, как дару, должно относиться ответственно. Ответственное отношение к бытию утверждается всяким нравственным актом. Последний нравствен тогда, когда не лишен связи с красотой. Нравственность утверждает себя в красоте. Трансцензус к красоте как таковой есть всегда выхождение за пределы «обихода», обретение духовно-нравственного совершенства, поскольку красота «фундирует собой всю систему ценностей» (М.А. Можейко).
Однако современность с присущими ей формами существования проблематизирует бытие человека, заглушает голос «фундаментальной страсти» человека пребыть, исполниться (М.К. Мамардашвили). Стандарты красоты, весьма далекие от идеала красоты, навязываемые с экранов телевизоров и компьютерных мониторов, пропагандируемые со страниц глянцевых журналов массовой культурой, явно лишены какого-либо нравственного содержания.
Однако так было не всегда. Нравственность и красоту долгое время отличали со-в-мест-ность и со-общаемость в культуре. Попытаемся прояснить точки их сопряжения. Любая культура отмечена такими формами эстетической деятельности, в которых человек осознает и осуществляет нравственные интенции, доводя последние «до полной силы и ума», обращая их на себя, реализуя в них «собственный проект». Иначе – «выходит себе навстречу» (Р.М. Рильке).
Античные греки, средневековые христиане, титаны Возрождения не отделяли красоту от нравственности, поскольку смотрели на мир сквозь призму красоты. Они как будто искали «формулу гармонии» с собой и миром.
По мысли В.С. Библера, мир античного грека мог быть и трагичен, и комичен, и лиричен. Однако оформление его в порядок (греческий Космос) было связано с образом Красоты. «Κοσμέω» означает «украшать, приводить в порядок, устроивать, приготовлять, ставить в строй, строить». Античный космос «вылепливают Художник, Военный, Политик, Моралист, Философ. Все это – лики Бога-скульптора, того, кто… будет назван в Новом Завете Космократором» [3, с. 350].
Средние века, унаследовав от античной культуры идею kalokagathia (единство благого и прекрасного), трансформировали ее в переживание верующим зримой красоты мира как образа безвидной красоты и божественного блага. Причем обращенность средневекового человека к умозрительной красоте, его способность читать природу «онтологически в свете божественного участия» [4, с. 123] не мешали ему переживать конкретный опыт, данный в реальности. «Наряду с культом общих понятий… в мировосприятии той эпохи живет непосредственная и ревностная устремленность к реальности, переживаемой во всех ее аспектах, включая наслаждение ею в эстетической перспективе» [5, с. 12].
Для эпохи Возрождения характерно выдвижение красоты, причем, как писал А.Ф. Лосев, чрезвычайно энергичное. Человек Возрождения обретает себя, внимательно всматриваясь в красоту природы, человека. Просвеченный лучами красоты, он может уже не бояться, что зло угнездится в его сердце. Связь красоты и блага в эту эпоху принимает бóльшую эстетическую окраску. Н. Кузанский в трактате «О красоте» определил благородное и прекрасное как одно и то же, красоту как то, что не может быть отделено от нравственности, ибо и то, и другое совершаются в человеческом существе. По Н. Кузанскому, красота есть бытие всего сущего, вся жизнь всего живущего и понимание всякого ума.
Новое время освобождает нравственность от груза теологии, и в «социальной морали» французского Просвещения на смену «charité» – христианского стремления делать добро ближнему – приходит «bienfaisance» – естественное стремление делать благодеяние [6, с. 1194].
Однако без Блага ничто иное не сохраняется как благо само-по-себе. «Добродетели совершенны, – писал Г. Померанц, – если они опираются друг на друга » (курсив наш. – М. Ч. , Т. М. ). Вне сопряжения друг с другом, вне целостности они вырождаются.
Пока нравственность и красота оставались предикатами целого, они естественно сопрягались в иерархии ценностей (ср.: название знаменитого сборника духовных аскетических произведений «Добротолюбие» дословно переводится как «Любовь к красоте»). Эстетическая окрашенность нравственности объяснялась потребностью в лицезрении высшего начала культуры – ее умного лика, ее «эйдоса».
«Эйдос», или, другими словами, зримо явленная в символах идея культуры (Космоса, Бога, Разума, Высшего Блага и т. д.), укореняя человека одновременно в вечности и сиюминутности этого единственного временного переживания, давала ему духовный ориентир, выраженный в пластических формах культуры. Вплоть до того момента, пока часть (человеческий рассудок) не стала претендовать на всеобщность и герои прежних эпох (Эдип, Фауст, Дон Кихот) уступили место Нарциссу, занятому самолюбованием. Красота, спасающая мир, ушла вместе с мучительным нравственным поиском, уступив место безмятежному и безболезненному существованию «общества анестезии». «Новый человек», проецируя на мир свой образ, лишенный нравственного измерения, превращает его в «примитивную схему», «голый проект» «без мифа, без красоты» [7, с. 227].
Значит ли это, что красота как форма нравственности и сама нравственность утрачены безвозвратно? Ответ на этот вопрос следует искать в нравственных перипетиях современности, которые связаны с утратой человеком своего мира и своего места в нем. «Индивид современности никогда не может оказаться в середке этого "своего мира" (как относительно уютно располагался в своем доме человек XVII–XIX вв.)» [8, с. 181]. Однако, если мир пошатнулся, повторим вслед за В.В. Бибихиным, то быть к нему равнодушным – безнравственно.
Конечно, отсутствие у современного человека, избалованного культурой потребления, чувства меры (категории эстетики, приобретающей тяжесть этического выбора в избытке вещности), не-чувствительность к предельным основаниям культуры (вырождение нравственной идеи в идеологию) приводят к утрате горизонта культуры, а значит, и горизонта личности (В.В. Библер).
Тем не менее человеком, всякий раз погруженным в напряженность нравственных перипетий, он остается. Всякая из перипетий безвыходна в том смысле, что не указывает конкретного пути, выводящего из сложившейся ситуации. Она вненормативна, не говорит – «поступай так или иначе, оставь поле брани, боевых товарищей, спаси свою жизнь» или «стой насмерть». Напряжение перипетии, по слову В.С. Библера, это «ситуация создания нравственности и личной ответственности за этот единственный и уникальный поступок, отнюдь не ориентированный на моральную ценность вне себя» [9]. Ответственный поступок есть свободный поступок, в котором связаны свободная воля и нравственность . Свободная воля делает возможным для человека осознание, а значит, и переживание (внешних) запретов, установленных не им как своих собственных (внутренних): не лгу не потому, что могут изобличить, а потому что совестно, стыдно лгать. Иначе, не следую слепо внешним запретам, поскольку основанием воли не может быть ожидаемый результат. Им может быть благо само-по-себе.
Поступок, в котором в ситуации нравственного напряжения осуществляется нравственность, есть совестливый поступок. «Внутренним средоточием нравственных перипетий (и в античности, и во всех иных формах культуры) всегда, но каждый раз неповторимо, является катарсис совести » (курсив наш. – Ч. М ., М. Т. ) [10].
Совесть – голос нравственности, внутренний закон, следуя которому мы осуществляем себя в качестве нравственного существа. Именно она определяет собою и образ человека, и человеческие отношения. Именно совесть, если можно так выразиться, играет роль «механизма», гармонизирующего в человеке два начала – себялюбие и направленность к другому. Какими видятся предпосылки, делающие возможным «работу» столь необычного «механизма»? Нам представляется, что те самые - «красота» и «разум воли». Каждым человеком не может не пониматься одинаково необходимость соотношения собственных интересов и интересов дру-гого/других (разум воли). Каждый не может не понимать, что есть достойная жизнь, и каждый стремится прожить именно достойную человека жизнь. Что такое достойная жизнь? Та, что противостоит насилию, агрессии, лжи, низости, хамству, безобразному поведению. Иначе, достойная жизнь – это жизнь нравственная (красота).
Здесь, пожалуй, уместно вспомнить И. Канта, замечавшего, что ничего нового в области нравственного поведения он не говорит, – мы всегда знаем, когда мы поступаем дурно. Важным для Канта было обоснование самой возможности нравственного поведения для всех . Он выводит эту возможность из естественной нравственности, которую человек находит в своем «сердце» (нравственный закон внутри нас). Кант обращает особое внимание на то, что человек должен сам осознавать необходимость (долженствование) определенных действий и сам понуждать себя к этому. В этом он видит специфику нравственных поступков в отличие от легальных (простое исполнение вменяемых человеку требований, внешнее подчинение). Нравственные поступки потребуют от человека определенных усилий, что вполне возможно, ибо человек – разумное существо и существо, стремящееся к возвышенному.
К чему приведут эти усилия? К утверждению собственного само-стоятельного бытия. Надо лишь «угадать спорящие в нас голоса» (В.С. Библер). Однако «нравственный космос», возникающий из хаоса нашей внутренней жизни, не может нами быть присвоен окончательно. Всякий раз человек будет обстоятельствами собственной жизни ставиться в ситуацию нравственного напряжения, создаваемую нравственными перипетиями, а значит, всякий раз ему потребуется «мужество быть» (П. Тиллих), не избавляться от собственных непереносимых перипетий, а обретать свободу поступать нравственно, укореняя собственное бытие в сопряжении с нравственностью и красотой.
Ссылки и примечания:
-
1. Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-03-00710.
-
2. Гегель Г. Эстетика: в 4 т. Т. 4. М., 1973. 668 с.
-
3. Цит. по: Курганов С.Ю. Акме Эдипа // АРХЭ: Труды культурологического семинара. Вып. 5. М., 2009. 371 с.
-
4. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003. 256 с.
-
5. Там же. С. 12.
-
6. Бельцер А.А., Занин С.В. Проблема «социальной морали» во французском просвещении на рубеже 50–60-х гг. XVIII в. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. Т. 10, № 4. С. 1191–1199.
-
7. Бибихин В.В. Язык философии. СПб., 2007. 389 с.
-
8. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. М., 1991. 417 с.
-
9. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность [Электронный ресурс] // На гранях логики культуры. URL:
-
10. Там же.
(дата обращения: 15.09.2016).
Список литературы Нравственность как красота: к вопросу о сопряжении
- Гегель Г. Эстетика: в 4 т. Т. 4. М., 1973. 668 с.
- Курганов С.Ю. Акме Эдипа//АРХЭ: Труды культурологического семинара. Вып. 5. М., 2009. 371 с.
- Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003. 256 с.
- Бельцер А.А., Занин С.В. Проблема «социальной морали» во французском просвещении на рубеже 50-60-х гг. XVIII в.//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. Т. 10, № 4. С. 1191-1199.
- Бибихин В.В. Язык философии. СПб., 2007. 389 с.
- Библер В.С. От наукоучения к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. М., 1991. 417 с.
- Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность //На гранях логики культуры. URL: http://www.bibler.ru/bim_ng_nravstv.html (дата обращения: 15.09.2016).