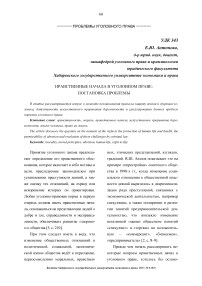Нравственные начала в уголовном праве: постановка проблемы
Автор: Антонова Е.Ю.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы уголовного права
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о моменте возникновения права на защиту жизни и здоровья человека, допустимости искусственного прерывания беременности и урегулировании данных проблем нормами уголовного права.
Мораль, нравственность, нравственные начала, искусственное прерывание беременности, жизнь человека, право на жизнь
Короткий адрес: https://sciup.org/143163141
IDR: 143163141
Текст научной статьи Нравственные начала в уголовном праве: постановка проблемы
Принятие уголовного закона предполагает определение его нравственного обоснования, которое включает в себя мотивы и цели, преследуемые законодателем при установлении преступности деяний, а также оценку тех отношений, на охрану или искоренение которых он ориентирован. Любая уголовно-правовая норма в первую очередь должна иметь нравственные начала, основываться на представлении людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, обеспечивать развитие «здорового» общества [5, с. 210].
При этом следует иметь в виду, что изменение общественных отношений в политической, социальной, экономической жизни общества ведёт к переоценке, переосмыслению моральных, нравствен- ных, этических представлений, взглядов, традиций. В.Ш. Аюпов показывает это на примере «перестройки» советского общества в 1990-х гг., когда изменение социального отношения к общественной опасности деяний выразилось в декриминализации ряда преступлений, связанных с экономической деятельностью, например спекуляции, а также поощрении и развитии занятий предпринимательской деятельностью, что повлекло изменение негативной оценки обществом понятий «спекулянт» и «торгаш» на положительную – «коммерсант», «бизнесмен», «предприниматель» [2, с. 8–9].
Прежде чем начать рассматривать некоторые вопросы нравственных начал в уголовном праве, хотелось бы остано- виться на определении понятия «нравственность» и соотношении правовых норм и норм нравственности.
По С.И. Ожегову, нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами [10, с. 420].
Советский энциклопедический словарь отождествляет нравственность с моралью. Мораль (от лат. moralis – нравственный), нравственность – особая форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения), один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции, нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливого и т.п. В отличие от права, исполнение требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения) [12, с. 831].
С.В. Тасаков определяет нравственность как совокупность норм (норм нравственности), определяющих поведение индивидуума в зависимости от существующих нравов, традиций, принципов человеческого общежития как благопристойное [14, с. 13].
А.М. Герасимов приходит к выводу о том, что нравственность – это учение о добре, его возможностях по формированию духовных и социальных качеств человека и гражданина, основанных на идеях свободы, равенства, справедливости и позволяющих ему (человеку и гражданину) обеспечить личные интересы без ограничения общественных благ [3, с. 7].
Как писал И.А. Ильин, «поведение человека имеет всегда двойной состав – душевно-телесный». Исходя из этого, автор подразделяет все правила человеческого поведения на две большие группы норм. К первой группе он относит все нормы моральные и религиозные, а ко второй группе – нормы правовые и нормы нравов [7, с. 81]. При этом, несмотря на то, что моральные и религиозные нормы И.А. Ильин относит к одной группе, он видит в них не только сходство, но и различия.
Сходство моральных и религиозных норм, по его мнению, состоит, во-первых, в том, что они требуют всеобщего признания, но связывают только тех, кто их добровольно признал (в религии – уверовал, в морали – убедился); во-вторых, в том, что они предписывают известное поведение, вырастающее из глубины души. Отличаются они, во-первых, по тому авторитету, который устанавливает правило (в религии – воля Божия, в морали – голос совести); во-вторых, по тому порядку, в котором правило формулируется (в религии – соборное изложение откровения, данного избранным людям, в морали – самостоятельное восприятие и формирование голоса совести данного каждому); в-третьих, по санкции (в религии – гнев и суд Божий над грешником, в морали – укор совести и чувство вины) [7, с. 86].
Правовые нормы отличаются от норм морали, во-первых, по тому авторитету, который устанавливает правило (в морали это внутренний авторитет – голос совести; в праве это внешний авторитет – другие люди, строго определённые и особо уполномоченные); во-вторых, по тому порядку, в котором правило устанавливается (в морали – самостоятельное восприятие и формирование голоса совести, данному каждому особо; в праве – последовательное прохождение правила через все строго установленные этапы рассмотрения, в котором участвуют многие люди); в-третьих, по тому, кто получает предписание (в морали – добровольно признавшие требование совести; в праве – всякий член союза, указанный в норме, независимо от его согласия и признания); в-четвёртых, по тому поведению, которое предписывается в норме (в морали – внутреннее поведение, выражающееся и во внешних поступках; в праве – внешнее поведение, которое может привести и к рассмотрению душевного состояния); в-пятых, по санкции (в морали – укор совести и чувство вины; в праве – угроза неприятными последствиями и внешние принудительные меры) [7, с. 91].
При этом, с одной стороны, нравственные предписания объемлют в себе часть права, с другой стороны, предписания правовые заключают в себе часть нравственности, но вместе с тем существует множество таких нравственных требований, которые не имеют правового значения, и много таких правовых норм, которые или вовсе не имеют нравственного содержания, или даже прямо безнравственны [15, с. 44].
В настоящей статье остановимся на таком дискуссионном вопросе, обсуждаемом не только с правовой и медицинской, но и религиозной, этической, моральной позиций, как допустимость искусственного прерывания беременности.
Человеческая жизнь расценивается обществом как высшее благо. Конституция РФ (ст. 20) провозглашает, что каждый человек имеет право на жизнь, и с этим никто не спорит. Это незыблемый постулат. Но неразрешённым и наиболее дискуссионным как с правовой, так и с нравственной позиции остаётся вопрос о том, когда появляется у человека право на жизнь. Часть 2 ст. 17 Конституции РФ определяет, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. С правовой точки зрения считается, что данное положение является основой для легализации проведения искусственного прерывания беременности.
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под моментом рождения ребенка понимается момент отделения плода от организма матери посредством родов.
В научной литературе предлагается понимать под моментом начала жизни человека появление в процессе родов какой-либо части тела ребенка вне утробы матери (С.В. Бородин, А.А. Жижиленко, А.Л. Карасова, О.В. Лукичев, Л.И. Мурзина В.Д. Набоков и др.), прорезывание головки младенца, выходящего из орга- низма матери (А.И. Коробеев), полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма беременной женщины (А.Н. Красиков, М.А. Трясоумов и др.), начало самостоятельного дыхания (В.Ф. Караулов, Ф. Лист, Л.В. Сердюк, И.Я. Фой-ницкий, М.Д. Шаргородский и др.), начало физиологических родов (Г.Н. Борзенков, Е.И. Грубова, С.В. Замалеева, А.В. Лунева, Е.О. Маляева, А.А. Пионтковский, Ш.Р. Раш-ковская, Б.С. Утевский, Р.Д. Шарапов и др.), перерезывание пуповины. Если исходить из положений действующего отечественного уголовного законодательства, которое предусматривает ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка во время родов (ст. 106 УК РФ), то моментом возникновения права на защиту жизни и здоровья человека является начало процесса физиологических родов. Именно данный момент с правовой точки зрения является критерием, по которому надлежит отграничивать незаконное проведение искусственного прерывания беременности от убийства, причинения смерти по неосторожности, а также умышленного или неосторожного причинения вреда здоровью. Соответственно права А.В. Лунева, определяющая начальную границу жизни моментом начала рождения, под которым, по её мнению, следует понимать начало первого родового периода – возникновение регулярных родовых схваток либо начало родоразрешающей операции по извлечению ребенка из организма матери [9, с. 97–101].
Согласимся с мнением о том, что в слу- чае, если плод, независимо от его жизнеспособности, умерщвляется в утробе матери до начала физиологических родов, содеянное должно квалифицироваться в зависимости от обстоятельств содеянного как незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ) либо умышленное или неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее прерывание беременности (ст. 111 или 118 УК РФ). По российскому уголовному законодательству потерпевшей от преступления в этом случае признаётся лишь женщина, находящаяся в состоянии беременности [6, с. 113–114]. Жизнь и здоровье ещё не родившегося человека не подпадает под уголовноправовую охрану, что с точки зрения нравственности, на наш взгляд, нельзя признать правильным. В случае если в процессе незаконного проведения искусственного прерывания беременности начинаются роды (искусственно вызванные) и смерть или вред здоровью причиняются уже рождающемуся человеку, содеянное следует квалифицировать в зависимости от формы вины как убийство (ст. 105 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ) [6, с. 113–114].
В науке уголовного права встречаются и иные позиции по данному вопросу.
Так, А.Н. Попов считает, что человеческая жизнь начинается практически с момента зачатия, и уголовно-правовая охрана жизни человека должна начинаться задолго до рождения ребенка. По его мнению, уголовно-правовая охрана жизни должна осуществляться с того момента, как ребенок готов к продолжению жизни вне утробы матери [11, с. 27]. В преамбуле Декларации прав ребенка (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.), а также в Конвенции о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.) сказано, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения.
Мнение о том, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, подтверждается и некоторыми научными исследованиями. Так, в 1996 г. на сессии Совета Европы по биоэтике учёные утверждали, что эмбрион является человеком уже на 14-й день после зачатия. Некоторые исследования показывают, что на 18-й день после зачатия у плода начинается сердцебиение, приходит в действие собственная система кровообращения и формируются основы нервной системы, а с 12-й недели беременности у плода функционируют все системы организма [14, с. 60].
Если признавать данную точку зрения, то искусственное прерывание беременности – это деяние, совершаемое в отношении существа живого, соответственно его с точки зрения норм морали необходимо расценивать как безнравственное, а с правовой позиции – как убийство.
Именно по такому пути идёт законодательство целого ряда зарубежных стран
(Афганистан, Ангола, Бангладеш, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Египет, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Йемен, Колумбия, Ливан, Ливия, Мавритания, Мали, Непал, Никарагуа, ОАЭ, Оман, Парагвай, Папуа Новая Гвинея, Сальвадор, Сирия, Чили), где аборт рассматривается как преступление против внутриутробной жизни, и приравнивается к убийству. В других странах (Алжир, Аргентина, Боливия, Бразилия, Гана, Израиль, Кения, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Польша, Уругвай, Япония и др.) аборт допускается в исключительных случаях, в том числе по медицинским и социальным показаниям [4, с. 72]. К примеру, в Японии, где аборт допускается только по медицинским и социальноэкономическим показаниям [4, с. 72], уголовно наказуемыми являются следующие деяния: производство себе аборта самой беременной (ст. 212 УК Японии), производство аборта с согласия беременной и причинение в результате этого смерти или телесных повреждений (ст. 213 УК Японии), производство аборта лицом, занимающимся специальным видом деятельности, и причинение в результате этого смерти или телесных повреждений (ст. 214 УК Японии), производство аборта без согласия беременной и покушение на совершение этого деяния (ст. 215 УК Японии), причинение смерти или телесного повреждения в результате производства аборта без согласия беременной (ст.
216 УК Японии) [16]. В комментариях к УК Японии, указывается на то, что при совершении указанных деяний «охраняемым правом… в первую очередь является жизнь и здоровье человеческого плода, находящегося в чреве матери … вторичным охраняемым правовым благом может быть названа безопасность жизни и здоровья матери» [4, c.72–73].
Вместе с тем представляется правильным мнение о том, что нельзя уравнивать жизнь эмбриона и жизнь родившегося человека. Безусловно, эмбрион человека – свидетельство зарождения новой жизни, но пока человек не родился, можно вести речь о жизни именно эмбриона. Даже в рамках медицины делается различие между внутриутробной жизнью, возникновение которой отождествляется с моментом зачатия, и внеутробной, когда новорождённый начинает существовать автономно. Жизнь эмбриона может стать объектом уголовно-правовой охраны только при условии введения в уголовный закон соответствующих норм [13, с. 206– 210].
В частности, постановка вопроса об уголовно-правовой охране эмбриона человека важна в свете развития технологий по клонированию, трансплантации эмбриональных (фетальных) органов и тканей, искусственному оплодотворению. Вместе с тем в научной литературе отмечается, что высокий уровень достижений в области медицины и биотехнологий не только позволяет решать ряд социально важных вопросов, но и одновременно порождает тревогу в обществе по поводу тех возможных этически правовых проблем, которые могут возникнуть в связи с реализацией этих достижений на практике [8, с. 271]. Обращает на себя внимание и тот факт, что даже в тех странах, где законодатель даёт право женщине самой решать вопрос о сохранении беременности, существуют ограничения по производству данной операции. Чаще всего устанавливается запрет на производство аборта в поздние сроки беременности, ненадлежащим субъектом, а также вне стационарных условий.
Современное российское законодательство дифференцирует уголовную ответственность за незаконное производство искусственного прерывания беременности и убийство. Самоаборт в нашем государстве уголовно ненаказуем. С правовой точки зрения наиболее обсуждаемым сегодня является вопрос о том, что субъектом незаконного производства искусственного прерывания беременности по российскому уголовному законодательству (ст. 123 УК РФ) является только лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля. Лицо, имеющее высшее медицинское образование соответствующего профиля, совершившее данное деяние с нарушением требований законодательства в сфере охраны здоровья о получении информи- рованного добровольного согласия либо с нарушением сроков (в том числе при наличии медицинских и социальных показаний, а также учитывая сроки с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности), установленных законодательством в сфере охраны здоровья для проведения искусственного прерывания беременности, подлежит лишь административной ответственности (ст. 6.32 КоАП РФ). Отметим, что норма о нарушении требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного прерывания беременности была введена в КоАП РФ лишь в 2014 г. и охватывает не все возможные нарушения в данной сфере со стороны медицинского работника. Так, если лицо, имеющее высшее медицинское образование соответствующего профиля, совершит данное деяние, например, в ненадлежащем месте (вне медицинской организации, в антисанитарных условиях), оно не будет подвергнуто наказанию. Такое положение следует признать противоречащим не только правовым, но и нравственным нормам.
Более удачным представляется подход зарубежных законодателей к вопросу о правовой регламентации ответственности медицинских работников за незаконное производство искусственного прерывания беременности. Во многих странах установлен именно уголовно-правовой запрет на проведение данной операции не только лицам, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля (как это предусмотрено в отечественном законодательстве), но и медицинским работникам, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, в случае, если они нарушают правила и стандарты её проведения. Так, лиц, имеющих высшее медицинское образование соответствующего профиля, в качестве субъекта незаконного производства аборта выделяют законодатели Армении (ч. 1 ст. 122 УК), Беларуси (ст. 156 УК), Таджикистана (ст. 123 УК), Туркменистана (ст. 120 УК), Казахстана (ч. 3 ст. 319 УК) и Кыргызстана (ст. 116 УК); врача-акушера и (или) гинеколога – законодатели Азербайджана (ст. 141 УК), Узбекистана (ст. 114 УК) и Эстонии (ст. 120 УК); врача-акушера, фармацевта или торговца медикаментами – законодатель Японии (ст. 214 УК); врача-гомеопата, акушера, фармацевта или аптекаря – законодатель Республики Кореи (ч. 1 ст. 270 УК); врача, имеющего право производить операции аборта, – законодатель Литвы (ч. 1 ст. 142 УК); лицо, имеющее на это право, – законодатель Латвии (ч. 1 ст. 135 УК) [1, с. 20–56].
Представляется, что нормативное правовое регулирование процедуры искусственного прерывания беременности служит индикатором нравственного (этического) отношения общества и государства к общественным отношениям в репродуктивной сфере.
Список литературы Нравственные начала в уголовном праве: постановка проблемы
- Антонова Е. Ю. Ятрогенные преступления в репродуктивной сфере по уголовному законодательству некоторых зарубежных стран/Е. Ю. Антонова, С. В. Замалеева//Вестник Дальневосточного юрид. института МВД России. 2014. № 1 (26).
- Аюпов В. Ш. Право и мораль в условиях глобализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук/В. Ш. Аюпов. М., 2009.
- Герасимов А. М. Нравственность в уголовном праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук/А. М. Герасимов. Саратов, 2006.
- Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография/В. Н. Додонов, О. С. Капинус, С. П. Щерба; под общ. ред. С. П. Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010.
- Жукова Т. Г. Нравственные начала уголовного права/Т. Г. Жукова//Вестник Северо-Кавказского гос. ун-та. 2011. № 2 (27).
- Замалеева С. В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации: дис. … канд. юрид. наук/С. В. Замалеева. Хабаровск, 2016.
- Ильин И. А. Теория права и государства/И. А. Ильин; под ред. и предисл. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003.
- Лиховая В. А. Проблемы соотношения биомедицинской этики и правового регулирования в области защиты неродившейся жизни//В кн.: Биомедицинское право в России и за рубежом: монография/В. А. Лиховая, Г. Б. Романовский, Н. Н. Тарусина, А. А. Мохов . М.: Проспект, 2015. С. 271.
- Лунева А. В. Уголовная ответственность за детоубийство: проблемы теории и правоприменения: дис. … канд. юрид. наук/А. В. Лунева. М., 2013.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. -23-е изд., испр./под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1990.
- Попов А. Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах/А. Н. Попов. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.
- Советский энциклопедический словарь. -4-е изд./гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1986.
- Тасаков С. В. Нравственные критерии определения начала жизни человека как объекта уголовно-правовой охраны/С. В. Тасаков//Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 4.
- Тасаков С. В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности/С. В. Тасаков. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008.
- Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права/Е. Н. Трубецкой. СПб.: Лань, 1999.
- Уголовный кодекс Японии/науч. ред. А. И. Коробеев. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.