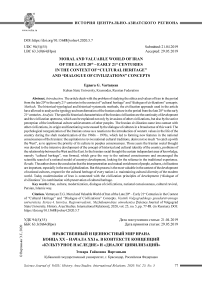Нравственный и ценностный мир Ирана конца ХХ - начала ХХI в. в контексте концепций "Культурное наследие" и "Диалог цивилизаций"
Автор: Вартаньян Эгнара Гайковна
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История Центрально-Азиатского региона
Статья в выпуске: 5 т.25, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена проблеме изучения нравственного и ценностного мира Ирана конца ХХ - начала ХХI в. в контексте концепций «культурное наследие» и «диалог цивилизаций». Методы. Использованные в статье историко-типологический, историко-системный методы и цивилизационный подход позволили проанализировать типологию и трансформацию иранской культуры конца ХХ - начала ХХI века. Анализ. Историческими особенностями иранской цивилизации являются непрерывность в развитии и цивилизационная открытость, которая объясняется не только вторжением иных цивилизаций, но и активным восприятием плодов интеллектуальной культуры других народов. Иранская цивилизация вступала в соприкосновение с другими цивилизациями, ее зарождение и функционирование были обусловлены диалогом культур в широком смысле этого слова. Внедрение западных ценностей в иранское общество началось в предвоенные, продолжилось и в послевоенные годы. Однако психологическая перестройка иранцев, возникшая как реакция на внедрение в жизнь страны западных ценностей в период шахской модернизации 1960-1970-х гг., привела к складыванию в национальном сознании иранцев новых черт: стремления возродить национальные культурные традиции, желания не столько «догнать Запад», сколько утвердить приоритет своей культуры в самосознании народа. В эти годы иранская общественная мысль была занята интенсивной разработкой концепции историко-культурной самобытности страны, проблем взаимоотношения западного и восточного миров. В иранской общественной мысли сформировалась некая самостоятельная область знания - «культурное наследие», дававшая выход пробудившемуся национальному самосознанию и стимулировавшая научный поиск рациональной модели развития страны, ищущая опоры в традиционном опыте. Результаты. Делается вывод о том, что взаимопроникновение и взаимообогащение народов, культур, цивилизаций важны, особенно в эпоху глобализации, но наибольшую ценность этот процесс представляет в контексте развития национальных культур, уважения к культурному наследию каждого народа, то есть сохранения культурного многообразия современного мира. Модернизацию Ирана сегодня увязывают с цивилизационными принципами развития («диалог цивилизаций») в сочетании с сохранением культурного наследия.
Иран, культура, модернизация, диалог цивилизаций, национальное самосознание, культурное возрождение, персидский язык, исламский путь
Короткий адрес: https://sciup.org/149131763
IDR: 149131763 | УДК: 94(5)(55) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2020.5.7
Текст научной статьи Нравственный и ценностный мир Ирана конца ХХ - начала ХХI в. в контексте концепций "Культурное наследие" и "Диалог цивилизаций"
DOI:
Цитирование. Вартаньян Э. Г. Нравственный и ценностный мир Ирана конца XX – начала XXI в. в контексте концепций «культурное наследие» и «диалог цивилизаций» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 5. – С. 77–88. – DOI:
Введение. Многие европейские и российские ученые высоко оценивали культурное наследие Востока. По словам русского философа А.С. Хомякова, Индия, Иран, Израиль, Китай с наибольшей глубиной пережили коллизию «природного поклонства и поисков чистой духовности, чистого вселенского разума», хотя этот опыт акцентировался в каждой из традиций по-разному [32, с. 154–156].
Во второй половине ХХ в. цивилизационному аспекту развития общества стало уделяться повышенное внимание во многих странах мира, особенно афро-азиатских. По мере все более глубокого их вхождения в систему мирового капиталистического хозяйства, приобщения к достижениям научно-технической революции, афро-азиатские государства в той или иной степени утрачивали специфику своего культурно-исторического и национального облика. Это явление не миновало даже японцев, перешагнувших порог постиндустриального общества. Осознав, что только культура может явиться дополнительным импульсом как для экономического развития страны, так и для достижения духовного лидерства в своем регионе, была разработана программа создания культурной региональной общности стран азиатско-тихоокеанского региона, стимулирующая их всестороннее развитие (речь идет о формировании сферы «конфуцианской культуры», объединяющей страны азиатско-тихоокеанского региона как основы модернизации этих стран в ХХI в.). Идеологическая программа конфуцианского культурного региона была разработана японским политологом Накадзима Минэцунэ в соответствии с исследовательским планом Министерства культуры Японии от 1987 г. «Сравнительное исследование экономического развития стран Восточной Азии и модернизация» [33]).
Типологически близкий процесс наблюдался и в Иране. Начнем с того, что иранская цивилизация восходит к глубокой древности и никогда не замыкалась в себе. Ее историчес- кими особенностями являлись непрерывность в развитии и цивилизационная открытость, которая объяснялась не только вторжением иных цивилизаций, что, естественно, вносило новые элементы от вторгающейся культуры, но и активным восприятием плодов интеллектуальной культуры других народов. Иранская цивилизация вступала в соприкосновение с другими цивилизациями, можно даже сказать, что зарождение и функционирование ее были обусловлены диалогом культур в широком смысле этого слова. Уместно вспомнить взаимоотношения Ирана с цивилизациями Двуречья, Древней Греции, Индии, Китая, взаимодействие между Персией и мусульманскими странами Ближнего и Среднего Востока, влияние персидского языка и культуры на язык и культуру народов Малой Азии, Кавказа, арабских стран, османской Турции и, наконец, стран Запада [4, c. 141–142; 5, с. 14].
Ускоренные темпы развития капитализма в после шахской модернизации Ирана 1960–1970-х гг. («белая революция») все крепче привязывали страну к мировой капиталистической системе, усиливали зависимость страны от индустриального Запада. Болезненная психологическая перестройка, возникшая как реакция на внедрение в жизнь Ирана западных ценностей, привела к складыванию в национальном сознании иранцев новых черт: стремления возродить национальные культурные традиции, желания не столько «догнать Запад», сколько утвердить приоритет своей культуры в самосознании народа.
На протяжении новейшей истории, особенно в 1960–1980-е гг., осмысление путей модернизации Ирана сопровождалось усилением идеологической и культурной полемики между сторонниками западного пути развития («западниками») и поборниками опоры на национальный исторический опыт («почвенниками»). В острой форме эта идейная борьба проявилась в 1960-е гг., в период осуществления программы «белой революции» шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, когда позиции «западников» укрепились, но им активно противостояла оппозиция, поддерживающая программу «исламского государства» шиитского духовенства во главе с имамом Рухоллой Мусави Хомейни (интересные сведения об этом периоде истории страны приводит очевидец со- бытий, советский дипломат Г. Авдеев) [2; 9]. Именно в этот период иранские ученые пытались разработать концепцию исторической и культурной самобытности своей страны и проблем взаимоотношения двух разных миров – западного и восточного.
В этих условиях раскрылись новые, неожиданные стороны роли в жизни иранского общества культурной традиции. Ее осмысление в Иране стало активно политизироваться. Если на протяжении предшествующих десятилетий культура призвана была смягчать в сознании людей издержки модернизации, то с середины 1960-х гг. она постепенно превратилась в структурообразующий элемент модели нового общества. Иными словами, культурные традиции (религиозные, исторические, литературные, этические, экономические) стали активно формировать принципы, на которые опиралось национальное сознание иранцев.
Пробуждение национального самосознания нашло свое выражение в широких дискуссиях и в росте публикаций по культуре и истории древнего Ирана, духовной и социальной миссии ислама. Постепенно в иранской общественной мысли сформировалась как бы самостоятельная область знания – «культурное наследие», дававшая выход пробудившемуся национальному самосознанию и стимулировавшая научный поиск рациональной модели развития страны, ищущей опоры в традиционном опыте [25, с. 54].
Процесс шахской модернизации страны сопровождался нарушением привычного для иранцев образа жизни и появлением элементов западной цивилизации в разных сферах жизни общества. Средние и низшие слои общества видели в «американизации» посягательство на национальные традиции, религиозную этику и мораль. Поэтому политическое и социальное освобождение многие иранцы понимали как освобождение от иностранного диктата, преодоления неравноправных отношений между Востоком и Западом и возвращение к исконным духовным ценностям [25, с. 54]. Не случайно в 2004 г. в Иране был создан Исследовательский институт культурного наследия и туризма, который начал свою деятельность под контролем Организации культурного наследия, народных промыслов и туризма Ирана.
Методы. В начале ХХ в. среди отечественных ученых стали активно разрабатываться идеи взаимодействия, синтеза Востока и Запада. Это послужило основанием для развития евразийской мысли (в 1920-е гг. историософскую и геополитическую школу евразийства возглавляли географ П.Н. Савицкий, историк Г.В. Вернадский, лингвист Н.С. Трубецкой). Идея синтеза культур Востока и Запада была важным направлением творчества Л.Н. Гумилева, Н.И. Конрада, Ю. Рериха и др. [7; 17; 23].
Цивилизационный подход, основанный на трудах А. Тойнби, К. Ясперса, О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского, позволил рассмотреть понятия «культурное наследие» и «диалог цивилизаций» в иранском обществе конца ХХ – начала ХХI в., показать сущность явлений, событий эпохи путем анализа ценностных ориентаций, умонастроений иранского общества, эстетических и религиозных установок, сформированных в сознании людей их культурой. Цивилизационный подход позволил выявить многообразие и вариативность формирования и развития иранского общества.
Использованные в исследовании историко-типологический, историко-системный методы позволили проанализировать типологию и трансформацию иранской культуры конца ХХ – начала ХХI века. Автор попытался выявить историко-культурный тип иранского общества рубежа веков на основе веберовского метода теоретической типологии. Кроме того, был проведен анализ культурного развития иранского общества на основе характеристики его системного развития в соответствии с историко-системным методом познания И.Д. Ковальченко.
В статье использована также концепция социокультурного взаимодействия Ирана с другими государствами отечественного исследователя Н.А. Самойлова.
Принципы историзма и научной объективности позволили изучать события в контексте определенных условий, их взаимосвязи и взаимодействии.
Анализ. К началу 1970-х гг. интеллектуальная элита Ирана начала осмысливать результаты интегрирования страны в мировую капиталистическую систему и задумываться о последствиях вестернизации. Кризис со- временной культуры, о котором много писали на Западе, вызывал у многих иранцев стремление избежать подобного у себя на родине. Отсюда и критическое отношение к западной культуре, ставшее своеобразной формой проявления антиимпериалистических настроений и средством утверждения националистических идеалов. Если в предыдущие десятилетия иранские культурологи разрабатывали проблемы взаимодействия иранской и мировой культур, развития страны по западному пути, то позже в работах по этой проблематике начинает преобладать критический дух в отношении Запада. Залог жизнеспособности иранской культуры они видели в стойкости религиозного сознания. Идеей, объединяющей иранских мыслителей в 1970-е гг., было представление о модернизаторской миссии ислама, трактуемого как главный культурообразующий фактор будущего страны [13, c. 56].
Но если для ученых и общественных деятелей страны «культурное возрождение» явилось отправной точкой в формировании идей национальной самобытности и социального протеста, то правящая элита стремилась сделать это наследие орудием упрочения власти и основой идеологического обоснования незыблемости монархии.
Рост антизападных настроений, наблюдавшийся на протяжении 1970-х гг., официальные идеологи старались использовать как средство перевода в националистическое русло оппозиционных течений в стране. Многие кризисные явления (коррупция среди чиновников, инфляция, преступность и пр.) объяснялись западным влиянием.
После событий Исламской революции 1978–1979 гг. произошел резкий поворот в культурной жизни страны, что нашло выражение в новом истолковании понятий «культура», «культурное наследие» [14, с. 92]. Концепция исламского пути развития Ирана была поставлена на службу сугубо прагматическим целям, превратившись в идеологический инструмент укрепления власти шиитского духовенства. Во все области духовной жизни страны стали внедряться идеи и понятия исламской революции, теологическая символика стала доминирующей в общественной и политической жизни общества. Религиозная пропаганда, просвещение, культура призывали к стро- гому следованию шиитским догмам веры, аскетизму, жертвенности, недоверию к внешнему миру. Исламское руководство с приходом к власти декларировало отказ от прежней трактовки понятия «культурное наследие», в том числе и от тезиса «непрерывности» древней культуры Ирана. Был провозглашен отказ от доисламской культуры страны, понятие «культурное наследие» включало период истории страны начиная с VII в., то есть с принятия ислама. После начала ирано-иракской войны в 1980 г. пространство культурного наследия и истории еще более сузилось и стало трактоваться только как история шиитской ветви ислама. Страна пошла по пути изоляционизма в соответствии с лозунгом, выдвинутым аятоллой Р.М. Хомейни «Ни Запад, ни Восток, а Ислам» [6, с. 127].
В литературе 1980-х гг. преобладала массовая религиозно-патриотическая тема. Классическая поэма Фирдоуси «Шах-наме» была запрещена религиозными властями наряду с произведениями других великих средневековых иранских поэтов, воспевающих власть шаха. Это насильственное сужение культурно-исторической памяти вело к застою в культурной жизни страны.
Для зарубежных исследователей трудность восприятия и осмысления происходящих в иранском обществе процессов заключалась в новом политическом, экономическом, общественном и культурном устройстве, возникшем в Иране после Исламской революции. Они воспринимали это как вызов западному капиталистическому миру, что объяснялось их европоцентристским подходом к восприятию цивилизации.
После прекращения ирано-иракской войны в конце 1980-х гг. и кончины имама Р.М. Хомейни началось некоторое ослабление идеологического курса, и в исламизированной концепции «культурного наследия» заметнее начинает проступать традиционный, собственно иранский элемент. Оживилась культурная жизнь, свидетельствуя о новых общественных настроениях и тенденциях в социально-политическом развитии страны. Налицо были признаки освобождения культуры от жестких религиозно-политических догм, предписываемых трактовок и возвращения к традиционному миру идей и художественных образов.
Первые попытки расширить границы культурного наследия и преодолеть культурный вакуум иранского общества в конце 1980-х гг. были предприняты после кончины имама Р.М. Хомейни и связаны с его именем. Ко дню первой годовщины этой даты было приурочено издание в 1989 г. в Тегеране сборника мистических газелей Р.М. Хомейни «Вино любви» [13, с. 59; 16, с. 8]. Читатель увидел аятоллу Р.М. Хомейни в новом облике тонкого лирика – суфийского поэта-мистика, который продолжил линию классической поэзии на фарси. В последующие годы неоднократно массовым тиражом издавался наиболее полный «Диван имама» Р.М. Хомейни [15, с. 77]. Массовый читатель, таким образом, стал приобщаться к стилю и образам классической суфийской поэзии, и благодаря поэтическому творчеству Р.М. Хомейни начало восстанавливаться традиционное наследие иранской культуры. Не менее важным событием в культурной жизни иранского общества было возвращение в литературу «Шах-наме» Фирдоуси [19]. Тысячелетию «Шах-наме» был посвящен международный конгресс в Тегеране в 1990 г., который проходил под эгидой ЮНЕСКО [16, с. 8].
Иран провозгласил новый политический курс в области культуры и приверженность классической традиции. Значение общих культурно-ценностных ориентиров как цивилизационного фактора для Ближнего и Среднего Востока иранская культурная и политическая элита начала осознавать с конца 1980-х годов. С начала 1990-х гг. в Иране стало издаваться много литературно-публицистических и научно-информационных журналов светского характера, на страницах которых появлялись разнообразные статьи, стихи, проза, переводы, знакомившие с новинками отечественной и зарубежной литературы. Массовыми тиражами стали издаваться поэты 1960–1970-х годов. В культурный обиход стало возвращаться поэтическое творчество великих мистиков прошлого, философия суфизма и т. д. Поэзия Ирана всегда была полем для переосмысления прошлого опыта в периоды, когда перед страной вставала задача нахождения нового соотношения между традицией и инновациями. Несмотря на силу традиций классического стиха, все новые веяния провоцировали переме- ны в литературе. Стало восстанавливаться поэтическое направление «новой поэзии» [15, c. 77].
Но наряду со стабильной тенденцией освобождения культуры и литературы от идеологических ограничений, по-прежнему работали исламские исследовательские центры в Куме и Мешхеде, в школьной и университетской системах образования религиозные дисциплины продолжали и продолжают занимать главенствующее место. Строго соблюдаются шиитские догматы веры и нормы, регулирующие повседневную жизнь. Перед кончиной имам Р.М. Хомейни предпринял попытку объединения региона под знаком сохранения чистоты и неприкосновенности религиозных ценностей ислама, идеологической непримиримости мусульманских принципов и западных культурно-этических установок. В феврале 1989 г. на весь мир прозвучала подписанная им фетва – смертный приговор английскому писателю индийского происхождения Салману Рушди за его сатирический роман «Сатанинские стихи» («Стихи дьявола»), в котором были усмотрены низкие и дерзновенные оскорбления Пророка ислама и осмеяние Божественного Откровения [10]. Акция Р.М. Хомейни была направлена на то, чтобы объединить исламский мир, противопоставив его в культурно-религиозном плане западному [1]. Даже раскаяние автора книги, его утверждение о том, что он не стремился оскорбить чувства верующих мусульман, не отменили наказание после смерти имама Р.М. Хомейни. Более того, фетва считается в исламском мире не только вердиктом имама Р.М. Хомейни, но и высших улемов университета Аль-Азхар в Египте, религиозных авторитетов Аравии, Организации Исламская конференция (с июля 2011 г. – Организация Исламского сотрудничества), в которую входят представители всех исламских государств, которые подтвердили приговор [20, c. 16]. Только в 1998 г. президент-реформатор Ирана Мохаммад Хатами назвал закрытым вопрос о приведении в исполнение фетвы о казни Салмана Рушди [18, с. 11]. Президент Ирана отменить фетву имама Р.М. Хомейни не мог, но для мирового сообщества важно было стремление М. Хатами учитывать моральные и правовые нормы, признанные мировым сообществом. Улучшению имиджа Ирана на международной арене в конце 1990-х гг. способствовала удачно найденная и используемая президентом М. Хатами формула о необходимости «диалога цивилизаций» [27]. И хотя речь идет об Иране как стране исламской цивилизации, всячески подчеркивается его принадлежность к более древней иранской цивилизации. Связующим звеном между этими двумя понятиями была общая культура, которая основывалась на двух постулатах – религии ислама и персидском языке и литературе [28, с. 5; 18, с. 11]. Идея М. Хатами о диалоге цивилизаций мировое сообщество встретило положительно, так как это было нечто новое, по сравнению с тем, что популяризировал исламский режим. Большую работу по распространению и осуществлению идей «диалога цивилизаций» провела Организация Объединенных Наций [31, с. 7]. Одним из инициаторов того, что ООН 2001-й год объявила годом диалога цивилизаций, был президент Ирана М. Хатами [29, с. 2; 38, с. 9].
Процесс модернизации затронул и иранский кинематограф. В конце 1970-х гг. – 1980-е гг. шиитские авторитеты относились к кинематографу не просто сдержанно, а даже резко отрицательно, усматривая в нем орудие одурманивания и развращения шахским режимом миллионов соотечественников, навязывание им непривычных норм поведения, сокрушение устоев традиционного мировоззрения. По велению цензуры из репертуарных планов студий исчезли некогда привычные любовно-лирические мелодрамы, ушли в небытие зрелищные ленты музыкальноразвлекательного характера. Их место заняли посвященные проблемам реальной жизни социально-психологические и бытовые драмы, военные антииракские, историко-патриотические картины. В настоящее время, как это ни парадоксально, но в стране с беспрекословным почитанием принципов шариата работают кинорежиссеры-женщины, сумевшие преодолеть одиозные патриархальные запреты и выпустить получившие одобрительные отзывы аудитории документальные и игровые киноленты. Руководство иранского кино придерживается той простой истины, что произведения экрана становятся интернациональными не тогда, когда копируют иностранный ширпотреб, а когда киноде- ятели черпают вдохновение для творчества в сугубо отечественных проблемах и сюжетах. Мастера экрана Исламской республики Иран (ИРИ) в последние десятилетия заявили о себе своим творчеством на мировой кинематографической арене. В 1987 г. иранский режиссер Мохсен Махмалбаф обратил на себя внимание картиной «Лоточник», вызвавшей широкие отклики в Иране и с успехом продемонстрированной на международных фестивалях в Лондоне, Гетеборге, Сиетле, Ванкувере. А в 1992 г. на кинофестивале в Карловых Варах специальной премией жюри был отмечен его фильм «Однажды кино» [34, с. 65–66]. Исполненные человечности, актуального общественного и нравственного содержания киноленты Ирана уже завоевали множество престижных призов авторитетных интернациональных кинопросмотров, самый значительный из которых – Золотая Пальмовая ветвь юбилейного 50-го Каннского международного фестиваля 1997 г., присужденная картине Аббаса Кияростами «Вкус вишни» [35, c. 30]. В 1996 г. в Мюнхене картина одного из наиболее одаренных и высокопрофессиональных представителей авторского кинематографа ИРИ режиссера Дарьюша Мехрджуи «Салам, сине-ма» была удостоена премии лучшего полнометражного художественно-документального фильма [34, c. 67–68]. Кинорежиссер Рак-шан Бани Этемад входит в число ведущих режиссеров Ирана и активно участвует в мировой фестивальной жизни. Ее фильмы побеждали в Салониках, Карловых Варах, Локарно, а в 2001 г. на Московском международном кинофестивале она получила специальный приз жюри за фильм «Под кожей города» [36]. Интересен фильм «Радость безумия», снятый 14-летней иранкой Ханой Махмальбах, который в 2003 г. претендовал на приз кинофестиваля в Венеции за лучший дебют [26].
В настоящее время иранский кинематограф находится на подъеме, фильмы кинематографистов Ирана пользуются спросом не только в пределах страны, но и в Европе. Эти фильмы пользовались популярностью у кинокритиков и у так называемого интеллектуального зрителя, так как отличались глубиной, многослойностью и колоритностью.
Говоря об интеграционных процессах в развитии иранской культуры, нельзя не отметить распространение в стране Интернета. Иранский Интернет во многом обязан своим развитием М. Хатами. После его избрания президентом в 1997 г. в стране начался настоящий интернет-бум. Лишь за первые два года пребывания у власти М. Хатами число пользователей интернет-ресурсов выросло почти в 10 раз. В настоящее время в Иране доступ в Интернет имеют около 2 млн граждан, то есть примерно 3 % населения страны. Правда, духовенство старается контролировать доступ иранцев к Сети. Например, в 2002 г. Высший совет по культурной революции объявил, что интернет-провайдеры обязаны следить за тем, чтобы интернет-сайты соответствовали исламским нормам. Несколько провайдеров были закрыты и создана специальная комиссия, которой поручено составить список «противозаконных» сайтов и предоставить его в министерство связи [3].
Летом 2003 г. в Тегеране произошли серьезные волнения студентов, размах которых сравним с событиями революции 1978– 1979 гг., когда возмущенные студенты сначала свергли шаха, а затем штурмом взяли американское посольство [37]. Но если в конце 1970-х гг. учащаяся молодежь выступила в авангарде Исламской революции, то теперь наоборот. Население, которое голосовало на выборах за президента-либерала М. Хатами, было возмущено тем, что клерикалы, сосредоточившие в своих руках власть, не позволяют президенту идти по пути модернизации страны. Это ли не показатель стремления общества к модернизации, к общечеловеческим ценностям?
Важным фактором культурной интеграции страны и фундаментом национального менталитета иранцы считают персидский язык. По выражению аятоллы Али Хаменеи, персидский язык – это величественное и чрезвычайно ценное наследие прошлого, предмет гордости и источник культурных достижений [11, c. 18]. Как фактор культурной интеграции персидский язык имеет два аспекта – внутренний и внешний. Известно, что на территории современного Ирана проживает более 40 малых народов, отдельных племен, этнических групп, которые относятся к различным языковым семьям (тюркской, семитской и др.), и персидский язык активно используется как важный инструмент культурной интеграции народов, населяющих страну (внутренний аспект). Если обратиться к внешнему аспекту, то среди стран, где развернута широкая пропаганда персидского языка, можно выделить несколько групп: страны мусульманского мира (Пакистан, ОАЭ, Малайзия, Ливия, Сирия, Ливан, Турция Бангладеш и др.); страны, возрождающие ислам (бывшие республики Советского Союза – Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан); страны, имеющие общие исторические корни с Ираном (Индия); страны традиционного изучения Ирана (Россия, Германия, Англия). Персидский язык проник даже в такие совершенно несхожие между собой и отличающиеся по многим параметрам от Ирана страны, как Япония и Финляндия, Испания и Китай, Румыния и Украина [11]. В России сейчас функционируют около двух десятков вузов, в которых преподается персидский язык – государственный язык ИРИ [8, с. 93]. Можно констатировать, что в настоящее время в Исламской республике Иран персидский язык активно используется как важный инструмент культурной интеграции народов.
Культурное развитие и политика Ирана в 1990-е гг. – начале ХХI в. свидетельствуют о том, что его лидеры ищут пути модернизации своего общества, опираясь на истоки национальной культуры, ее позитивные традиции и накопленный опыт. Эту тенденцию подтвердила и проведенная в 1994 г. в Тегеране конференция иранистов и преподавателей персидского языка и литературы стран СНГ, приуроченная к 15-й годовщине Исламской революции в Иране. Форум продемонстрировал высокую политическую значимость знания о богатом культурном наследии Ирана.
Большим шагом вперед в направлении развития диалога цивилизаций и процесса модернизации культуры иранского общества стал состоявшийся в Тегеране в 2003 г. Первый национальный конгресс иранистов. Показателен в этом отношении доклад президента М. Хатами под названием: «Иранистика – это окно, открытое для того, чтобы слышать, знать и говорить. Это окно должно быть еще шире открыто перед миром». На конгрессе говорилось о междисциплинарном и межрегиональном подходе при изучении Ирана, необходимости расширения рамок познания, налаживания и усиления контактов между учеными разных стран [28]. Стремление президента М. Хатами не удивительно, ведь лозунг, с которым он пришел к власти – «Учиться лучшему, что есть у Запада». По мнению М. Хатами, ни одна великая культура, ни одна великая цивилизация не создавались в изоляции самостоятельно в отрыве от других культур. Лишь те культуры и цивилизации смогли выжить и развиваться, которые способны обмениваться с другими цивилизациями своими достижениями, обладают умением «говорить и слушать» [29, c. 59].
С приходом к власти президента М. Ахмадинежада в 2005 г. стала прослеживаться тенденция сохранения собственно иранского фактора в развитии культуры. М. Ахмадинежад стал отходить от линии диалога цивилизаций в сторону тезиса о развитии собственно иранской культуры, обозначаемой в персидском языке термином iraniyat [12].
С победой Хасана Роухани на президентских выборах в 2013 г., в иранском обществе возродился интерес к диалогу цивилизаций, сотрудничеству с другими странами, в том числе со странами Запада.
В 2016 г. президент Ирана Хасан Роухани назначил вице-президентом и главой национальной Организации по делам культурного наследия, ремесел и туризма Ирана доктора наук Захру Ахмадипур. Тот факт, что в Иране должность одного из десяти вице-президентов связана с вопросами сохранения культурного наследия, свидетельствует о внимании, которое уделяет правительство проблемам развития культуры.
В 2018 г. в России прошла Неделя иранской культуры, а в 2019 г. в Иране – Неделя российской культуры, прорабатывается возможность проведения в 2020 г. перекрестного Года культуры и туризма между Россией и Ираном [21]. Российские ученые-иранисты периодически проводят международные научные конференции, посвященные диалогу цивилизаций, сохранению культурного наследия и проблемам сотрудничества с ИРИ [30]. Так, в 2001 г. Институт востоковедения РАН совместно с культурным представительством при посольстве ИРИ организовал научную конференцию «Иран: диалог цивилизаций», перспективы взаимодействия цивилизаций были обсуждены в том же году на IV Международной Кондратьевской конференции «Диалог и взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: альтернативы на ХХI век», а также в 2002 г. на российско-иранском международном симпозиуме «Диалог цивилизаций: исторический опыт и перспективы на ХХI век», состоявшемся в Российском университете дружбы народов [38, с. 11]. В 2016 г. Санкт-Петербургский гуманитарный университет провел международную научную конференцию «Россия – Иран: диалог культур» [8; 24]. В феврале 2019 г. был проведен Первый международный конгресс Евразийской ассоциации иранистов, организованный Институтом восточных рукописей РАН Санкт-Петербурга, Государственным Эрмитажем при поддержке Посольства Исламской Республики Иран и Культурного представительства при Посольстве ИРИ в РФ [22]. Все это – примеры практической реализации концепций «культурного наследия» и «диалога цивилизаций» ИРИ.
Результаты. В последние десятилетия ХХ в. на социально-политическую жизнь Ирана все большее влияние стал оказывать фактор культуры и в противоборстве идей, выдвигаемых различными кругами политической элиты Ирана в поисках путей дальнейшего развития страны, явственно зазвучала тема «культурного наследия». Модернизацию Ирана ее лидеры и народ сегодня прямо увязывают с цивилизационными принципами развития (с диалогом цивилизаций) в сочетании с сохранением культурного наследия – теми нормами культуры, которые сложились в стране за долгие века и могут обеспечить ей процветание и достойное место в своем регионе. Человечество все более осознает, что цивилизации современного мира могут не только сосуществовать, но и сотрудничать, а по возможности, дополнять друг друга. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости укрепления связей и отношений между культурами разных народов и, соответственно, между различными цивилизациями. Взаимопроникновение и взаимообогащение народов, культур, цивилизаций важны, особенно в эпоху глобализации, но наибольшую ценность этот процесс представляет в контексте развития национальных культур, уважения к культурному наследию каждого народа, то есть сохранения культурного многообразия современного мира. Можно констатировать, что нравственный и ценностный мир Ирана конца ХХ – начала ХХI в. – это сочетание таких концептов, как «культурное наследие» и «диалог цивилизаций».
Список литературы Нравственный и ценностный мир Ирана конца ХХ - начала ХХI в. в контексте концепций "Культурное наследие" и "Диалог цивилизаций"
- Аятолла Мохаммад Али Тасихири. Салман Рушди - террорист. Он заслужил смерть / Аятолла Мохаммад Али Тасихири // Известия. - 2003. - 21 окт.
- Авдеев, Г. Записки дипломата. Дом на Ве-сал-е Ширази / Г. Авдеев // Азия и Африка сегодня (ААС). - 1999. - № 11. - С. 51-55.
- Бабасян, Н. Аятоллы объявили джихад Интернету / Н. Бабасян // Известия. - 2003. - 14 марта.
- Вартаньян, Э. Г. Особенности средневековой турецкой литературы / Э. Г. Вартаньян // Мир Востока. - 2002. - С. 141-147.
- Вартаньян, Э. Г. История турецкой литературы / Э. Г. Вартаньян. - Краснодар : Изд-во КубГУ, 2018. - 332 с.
- Вартаньян, Э. Г. Интеграционные процессы в культурах стран Запада и Востока / Э. Г. Вартаньян. - Краснодар : Изд-во КубГУ, 2013. - 160 с.
- Гумилев, Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации / Л. Н. Гумилев. - М. : Оникс, 2003. -606 с.
- Иванов, В. Б. Перспективы исследований иранских языков в РФ / В. Б. Иванов // Россия - Иран: диалог культур : сб. Междунар. науч. конф., 8 апр. 2016 года. - СПб. : Изд-во СПбГУП, 2017. - С. 93-101.
- Как назревала исламская революция // Персия. - 2001. - № 1 (4). - С. 21-24.
- Калинникова, Е. Феномен Салмана Рушди / Е. Калинникова // ААС. - 1997. - № 2. - С. 58-63.
- Каменева, М. Персидский язык как фактор культурной интеграции / М. Каменева // Персия. -2001. - № 1(4). - С. 18-20.
- Каменева, М. О трансформации понятия «культура» в Исламской Республике Иран / М. Каменева. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-transformatsii-ponyatiya-kultura-v-islamskoy-respublike-iran (дата обращения: 12.03.2019). - Загл. с экрана.
- Кляшторина, В. Б. Традиции культуры и пути модернизации / В. Б. Кляшторина // ААС. -1994. - № 8-9. - С. 54-60.
- Кляшторина, В. Б. Иран 1960-1980-х гг.: от культурного плюрализма к исламизации духовных ценностей / В. Б. Кляшторина. - М. : Наука, 1990. - 205 с.
- Кляшторина, В. Б. Этапы эволюции современной персидской поэзии / В. Б. Кляшторина // ААС. - 2004. - № 3. - С. 71-77.
- Кляшторина, В. Б. Вклад Ирана в развитие мирового диалога культур / В. Б. Кляшторина // Персия. - 2000. - № 3. - С. 7-11.
- Конрад, Н. И. Запад и Восток / Н. И. Конрад. - М. : Наука, 1972. - 496 с.
- Мамедова, Н. Опыт исламского правления / Н. Мамедова // ААС. - 1999. - № 2. - С. 4-11.
- Миронов, А. Перспективы подготовки канонического текста «Шах-наме» Фирдоуси / А. Миронов // Иран сегодня. - 2003. - № 1. - С. 19-21.
- На фундаменте исламских ценностей : интервью Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской республики Иран в России Н. Изади // ААС. -1993. - № 7. - С. 13-16.
- Неделя иранской культуры пройдет в РФ в 2018 году. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://tass.ru/kultura/5008003 (дата обращения: 02.03.2019). - Загл. с экрана.
- Первый Международный конгресс Евразийской ассоциации иранистов. Тезисы. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https:// publications.hse.ru/books/243623166 (дата обращения: 25.02.2019). - Загл. с экрана.
- Рерих, Ю. Н. Расцвет ориентализма / Ю.Н.Рерих // Рерих Ю. Н. Тибет и Центральная Азия. - Самара : Агни, 1999. - 368 с.
- Россия - Иран. Диалог культур : сб. Между-нар. науч. конф., 8 апреля 2016 года. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://publications. hse.ru/books/210966828 (дата обращения: 18.02.2019). -Загл. с экрана.
- Тимофеева, И. Роль ислама в общественно-политической жизни стран зарубежного Востока / И. Тимофеева // Мировая экономика и международные отношения. - 1982. - № 5. - С. 49-57.
- Федина, А. 14-летняя иранка борется за приз Венецианского кинофестиваля / А. Федина // Известия. - 2003. - 26 июля.
- Хатами, М. В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада. Выступление во Флорентийском университете (08.05.1999) / М. Хатами. - М. : Гуманитарий : Акад. гуманит. исслед., 2001. - 99 с.
- Хатами, М. Иранистика - это окно, открытое для того, чтобы слышать, знать и говорить. Это окно должно быть еще шире открыто перед миром / М. Хатами // Иран сегодня. - 2003. - № 1. -С. 2-7.
- Хатами, М. Ислам, диалог и гражданское общество / М. Хатами. - М. : РОССПЭН, 2001. -237 с.
- Хатами, С. М. Диалог цивилизаций - путь к взаимопониманию и сотрудничеству / С. М. Хатами // Персия. - 2000. - №» 3. - С. 2-6.
- Харрази, Сейед Садег. Диалог цивилизаций: необходимость современного мира / С. С. Харрази // Иран: диалог цивилизаций : материалы конф. -М. : Муравей, 2003. - С. 5-9.
- Хомяков, А. С. Записки о всемирной истории / А. С. Хомяков // Полное собрание сочинений. - Изд. 3-е, доп. - М. : Наука, 1900. - Т. 5. - 640 с.
- Чэнь, Кайкэ. Конфуцианство и «культура предприятия» в современной Восточной Азии / Кайкэ Чэнь. - М., 2002. - Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/ konfutsianstvo-i-kultura-predpriyatiya-v-sovremennoi-vostochnoi-azii (дата обращения: 04.04.2019). - Загл. с экрана.
- Шахов, А. Три корифея кинематографа / А. Шахов // ААС. - 1999. - №° 2. - С. 63-68.
- Шахов, А. Новое иранское кино в Москве / А. Шахов // Персия. - 2000. - №№ 3. - С. 30-33.
- Этемад, Ракшан Бани. На наш кинематограф повлиял Тарковский / Ракшан Бани Этемад // Известия. - 2002. - 2 июня.
- Юсин, М. Иранская молодежь бросает вызов духовному лидеру Исламской республики / М. Юсин // Известия. - 2003. - 17 июня.
- Яковец, Ю. В. Диалог между цивилизациями: исторический опыт и перспективы / Ю. В. Яковец // Персия. - 2002. - №> 3 (8). - С. 8-12.