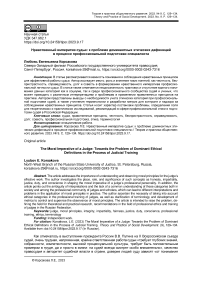Нравственный императив судьи: к проблеме доминантных этических дефиниций в процессе профессиональной подготовки специалиста
Автор: Корсакова Л.Е.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается важность понимания и соблюдения нравственных принципов для эффективной работы судьи. Автор исследует место, роль и значение таких понятий, как честность, беспристрастность, справедливость, долг и совесть в формировании нравственного императива профессиональной личности судьи. В статье также отмечается неоднозначность трактовок и отсутствие единого понимания данных категорий как в социуме, так и среди профессионального сообщества судей и ученых, что может приводить к различным интерпретациям и проблемам в применении нравственных принципов на практике. Автором представлены выводы о необходимости учета этических категорий при профессиональной подготовке судей, а также уточнения терминологии и разработки метрик для контроля и надзора за соблюдением нравственных принципов. Статья носит характер постановки проблемы, определения поля для теоретических и практических исследований, рекомендаций в сфере профессиональной этики и подготовки судей в Российской Федерации.
Судья, нравственные принципы, честность, беспристрастность, справедливость, долг, совесть, профессиональная подготовка, этика, терминология
Короткий адрес: https://sciup.org/149143339
IDR: 149143339 | УДК: 347.962.1 | DOI: 10.24158/tipor.2023.9.17
Текст научной статьи Нравственный императив судьи: к проблеме доминантных этических дефиниций в процессе профессиональной подготовки специалиста
Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург, Россия, ,
North-West Branch of the Russian State University of Justice, St. Petersburg, Russia, ,
значимости, достоинства своей миссии», граждане должны быть уверены, что «суд будут вершить беспристрастные, честные, неподкупные люди»1. Целью данной статьи является постановка проблемы определения понятий, освещающих нравственные основы профессиональной личности судьи, и условий формирования нравственного императива специалиста в процессе профессиональной подготовки юриста, поскольку отсутствие четкого концептуального уяснения и законодательного определения правовых этических дефиниций приводит к значительным затруднениям в развитии теории и практики судопроизводства в современной России. В исследовании проводится анализ законодательства и нормативных актов, регулирующих поведение судей, а также актуальной научной литературы по теме этики и профессиональной подготовки судей.
В классическом понимании нравственный императив судьи складывается из следующих составляющих, среди которых: этические принципы (например, принципы справедливости, беспристрастности, добросовестности в процессе рассмотрения дела), профессиональные стандарты (например, требование знания законодательства и правовой практики), личные качества (например, честность, ответственность, уважение к другим и т.д.). Сложность определения понятия «нравственный императив» как раз и заключается в том, что оно является центрообразующим для такой категории профессиональной этики, как «моральное сознание». Следует принципиально разграничить нравственные аспекты профессиональной деятельности судьи (например, при принятии им решения по делу, взаимодействии с разными категориями лиц, связанных с судебным процессом и др.) и моральное сознание личности судьи как совокупность чувств (эмпирический уровень) и идей, ценностей (теоретический уровень), отражающих представление субъекта о должном поведении людей в обществе2. При этом справедливо утверждение автора учебного пособия «Основы судейской этики» о том, что существует органическая связь между вышеуказанными категориями морали, поскольку «моральные представления предопределяют тип поведения людей, а на основе этих типов поведения формируются те или иные отношения между людьми»3.
Если для юриста как представителя профессии характерен определенный стиль мышления, специфическая языковая картина мира, то для судьи – носителя судебной власти, занимающего во всех правовых системах вершину юридической пирамиды в силу возлагаемой на него государством и обществом сугубой нравственной ответственности за правосудную деятельность, духовномировоззренческая составляющая морального сознания выражена в наиболее концентрированном виде. На самом деле вопрос соотношения права и морали для судьи является глубинным, влияющим на формирование его внутреннего убеждения при постановлении окончательного судебного акта, а следовательно, он напрямую влияет на качество отправления правосудия. По мнению В.Г. Ярославцева, под правосудием следует понимать профессиональную деятельность судьи, «который, для того чтобы прийти к законному и справедливому, с его точки зрения, решению по делу, не только толкует закон, но и вводит в это решение свои личностные нравственно-правовые принципы» (Ярославцев, 2007). Таким образом, получается, что «авторитет закона зависит напрямую от тех людей, которые олицетворяют собой профессионализм и нравственность» (Мар-кеев, Цукерблат, 2020: 79), и именно эти обстоятельства, на наш взгляд, в итоге требуют повышенного и пристального внимания к формированию личности будущего работника судебной системы. Однако следует учитывать, что методологический и практический инструментарий для измерения сформированности нравственного императива личности судьи априори отсутствует. Должное сформулировано в присяге судьи. Сущее обусловлено необходимостью принимать во внимание психологические, социальные, языковые, возрастные и гендерные, так называемые биосоциальные, характеристики конкретно взятого специалиста судебной системы.
Рассмотрим семантику текста присяги судьи Российской Федерации как официального торжественного обещания. «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть»4. В одном предложении представлен своеобразный ментальный нравственный лексикон судьи, состоящий из таких слов, как «честность», «добросовестность», «беспристрастность», «справедливость», «долг», «совесть». Именно данные максимы должны быть сформированы в личности судьи задолго до того, как он приступит к осуществлению правосудия.
Честность – одно из главных профессиональных требований к личности судьи, тем не менее концептосфера лексико-семантического поля данного понятия весьма многогранна, что приводит к отсутствию единообразного понимания указанной категории как обществом в целом, так и самими судьями в частности. Этимология слова «честность» восходит к общеславянскому «честь» (сравним по словообразованию с «власть», «весть»), что в свою очередь буквально означает «почитание, почет, уважение». Пользуясь тезаурусом Кодекса судейской этики1, вполне допускаем в данном ключе выстроить следующий контекстуально-синонимический ряд: «честь» (уважение в первую очередь к закону) – «принципиальность» (верность закону) – «авторитет судебной власти» / «доверие судебной власти» – «достоинство судебной власти» – «судейская репутация». Честность коррелирует с неподкупностью, антикоррупционностью и независимостью судьи. Именно в таком смысле она декларативно трактуется судейским сообществом и закреплена в пункте 10 раздела II «Основные принципы и правила служебного поведения гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции и управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федера-ции»2. (Кстати, хотелось бы обратить внимание законодателя на непропорциональную рубрикацию в структуре кодекса: пункт 10 разбит на девятнадцать (от а до у) слишком мелких подпунктов, что при работе с документом приводит к неэффективному использованию времени и затрудняет анализ нормативно-правового акта и выделение его ключевых положений). Итак, неподкупность и антикоррупционность являются неотъемлемыми атрибутами честности судьи. Независимость же позволяет судье принимать решения на основе закона и фактов дела, а не под давлением со стороны других лиц или органов власти. В данном понимании критерий честности судьи является вполне объективным, измеримым и контролируемым, хотя также неоднозначным. К сожалению, в XXI в. до сих пор остается актуальным принцип «стремления к наибольшей выгоде государства», сформулированный в «Диалогах» Платона: древнегреческий философ считал, что «судьи имеют право лгать, чтобы обманывать неприятеля или граждан в видах общего интереса» (Платон, 2019).
В российской ментальности честность вообще может измеряться по различным критериям, таким как соблюдение обещаний, открытость и искренность в общении, честность в делах и т.д. Синонимами ее в русской культуре могут быть понятия порядочности, правдивости, добросовестности, надежности и т.д., соотносимые с универсальными общечеловеческими ценностями и предопределяющие честность судьи как человека. При этом в сознании обычных людей понятия «честный человек» и «честный судья» довольно часто не совпадают.
Категория честности в качестве социально-личностного конструкта рассматривается в психологическом исследовании О.А. Белобрыкиной (Белобрыкина, 2018). Исследователь полагает, что «честность в российском обществе представляет некий условно принимаемый нравственный закон. Однако если возникает ситуация, в которой требуется проявление милосердия, то требования закона и правдивости уходят на второй план» (Белобрыкина, 2018: 53). О.А. Белобрыкина отмечает, что феномен проблемы соотношения правды и лжи, честности и нечестности, справедливости и несправедливости в более широком контексте – типичное порождение русского менталитета, в рамках которого исторически честность понимается как нечто необязательное. Исследователи, проводившие опрос среди профессионально ориентированного сообщества, отмечают некоторое априорное значение дефиниции «честность» при отсутствии четкого определения ее объективных критериев: «Категория честности по-прежнему остается философской, этической, лингвистической, юридической неопределенностью, в которую каждый субъект права вкладывает свой смысл» (Отческая и др., 2021: 240, 247). Тем не менее честность нуждается в четком определении, так как является квалификационным требованием к кандидату на должность судьи.
Сложно обстоят дела и с определением таких морально-правовых понятий, как беспристрастность и справедливость. Термин «беспристрастность» был введен русским поэтом и критиком Василием Тредиаковским в XVIII в. и обозначал первоначально отсутствие предвзятости и субъективности в описании персонажей, событий и явлений в художественном произведении, когда автор не выражает своих личных взглядов и оценок, а лишь передает факты и дает читателю возможность самому сделать выводы. Синонимами беспристрастности выступают термины «объективность», «непредвзятость», «нейтральность», «независимость». В статье 9 «Принцип объективности и беспристрастности» Кодекса судейской этики3 прописано долженствование, которое предполагает, что судья не имеет предвзятого отношения к делу, свободен от каких-либо предпочтений и предубеждений. Однако в реальности представляется практически невозможным исключить такие факторы, как личные убеждения и предубеждения (Прокофьев, 2022), подверженность со стороны давления общественности или власти. Обычная апперцепция как процесс осмысления и восприятия новой информации через призму уже имеющихся эмоций, знаний и опыта, в значительной мере влияющая на формирование внутреннего убеждения по любому вопросу, уже не позволяет, на наш взгляд, судье быть беспристрастным в полном смысле этого слова.
Известно изречение римского права: «Право - искусство добра и справедливости». Сразу возникает вопрос о том, что такое справедливость. Очевидна сложность и неоднозначность этого понятия. Несомненно, справедливость требует соответствия между деянием и воздаянием, правами и обязанностями, трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием. Отсутствие соответствия между этими сущностями обычно трактуется как несправедливость. Однако понимание данной категории не является универсальным. То, что для одного человека кажется справедливым, другому представится абсолютной несправедливостью, причем каждая из сторон будет искренне убеждена в правильности своей позиции. И в этом отношении мы должны обратить внимание на то, что справедливость - категория правовая, а не внеправовая. Чтобы понять, что заслуживают люди за свои поступки, необходимо сначала оценить эти поступки с точки зрения единых критериев. Можно даже сказать, что только право и справедливо, потому что справедливость воплощает собой и выражает общезначимую правильность, всеобщую правомерность. Поступать по справедливости - значит действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным требованием права.
Идеальный образ судьи включает в себя субъективные этические категории долга и совести. Пожалуй, только по поводу категории долга как обязательства судьи справедливо и беспристрастно рассматривать все дела, которые поступают к нему на рассмотрение, в науке нет серьезных прений. Указанная дефиниция включает в себя набор этических принципов (в Присяге сформулировано - «как велит мне долг»1): независимость, беспристрастность, компетентность судьи, интегритет, соблюдение этических норм (следование высоким стандартам этики и профессионального поведения).
Этическая категория «совесть» является самой спорной в структуре нравственного императива судьи и более других нуждающейся в четком концептуальном уяснении и законодательном определении понятия. С одной стороны, совесть судьи является важным инструментом для обеспечения справедливости и законности в правосудии, с другой - в философском аспекте данная ценностная категория напрямую связана с религиозным осмыслением, духовностью личности и, безусловно, зависит от мировоззрения не только отдельного человека, но и судейского сообщества в целом. Например, выражение «чистая совесть» имеет глубокие корни в русской православной культуре и в христианской традиции коррелирует с понятием исповеди и прощения грехов, рассматривается как одно из условий спасения души. В современном мире это выражение стало использоваться в широком смысле и означает, что поскольку человек не совершал неправильных действий, ему нет необходимости испытывать чувство вины или стыда за свои поступки. Тем не менее совесть представляет собой внутреннюю моральную инстанцию. Недаром в русском языке есть множество устойчивых выражений - олицетворений: «совесть молчит», «совесть не позволяет», «совесть требует», «совесть мучает и не дает покоя», «совесть взяла верх» и др.
На отсутствие единого мнения в определении содержания понятия «совесть судьи» указывают в своей работе Т.В. Якушева и М.А. Стародубцева. Исследователи задают провокационный вопрос: «А если закон говорит одно, а совесть диктует другое? Здесь мы уже тесно соприкасаемся с проблемой быстрого профессионального выгорания судей, вынужденных разрываться между законом и нравственностью» (Якушева, Стародубцева, 2019). Однако попытка решения данного вопроса посредством изменения законодательной регламентации ст. 17 УПК РФ1 и предложение создать практико-ориентированное понятие совести, опирающейся на развитое правосознание и правовую культуру судьи, поставить категорию совести перед категорией закона выглядят, на наш взгляд, несостоятельно. Абсурдность предлагаемой формулировки содержания статьи «Судьи независимы и подчиняются только своей совести, Конституции РФ и закону для реализации высшей цели в деле установления истины по рассматриваемым ими делам» (Якушева, Стародубцева, 2019) заключается именно в субъективизме критериев измерения категории «совесть». Следует также учитывать тот факт, что совесть правоприменителя всегда напрямую соотносится с совестью законодателя, а значит совесть уже как бы «не совсем своя».
В присяге судьи также употреблено однокоренное слово «добросовестно», пришедшее из старославянского языка и образованное от слов «добро» и «совесть». В целом, сегодня добросовестность означает в большей степени ответственность за свои действия.
Таким образом, согласно проведенному исследованию, можно сделать следующие выводы:
-
1. Честность, беспристрастность, справедливость, долг и совесть являются важными этическими категориями-принципами для правосудия и должны учитываться при профессиональной подготовке юристов и судей. Честность и беспристрастность помогают судье принимать решения на основе фактов и права, а не на основе личных предубеждений или влияний. Справедливость является ценностью, на которой строится работа судьи, а долг и совесть определяют степень ответственности судьи за свои решения и действия. Понимание и соблюдение нравственных принципов не только важны для эффективной работы судьи, но и являются неотъемлемой частью его духовно-мировоззренческой идентичности.
-
2. Во избежание многозначности и неоднозначности трактовок указанных категорий необходимы в первую очередь уточнение и унификация данной терминологии в юридических словарях и энциклопедиях, и только затем закрепление её в соответствующих нормативно-правовых документах. Это позволит обеспечить единообразное понимание данных понятий в юридической сфере и избежать возможных ошибок и недоразумений при их использовании. Закрепление данной терминологии в соответствующих нормативно-правовых документах также является важным шагом для обеспечения ее стабильности и надежности в долгосрочной перспективе.
-
3. Отсутствие критериев измерения затрудняет контроль и надзор за соблюдением этических принципов. Стоит обратить внимание на разработку и внедрение соответствующих метрик и инструментов для оценки соблюдения указанных принципов, что поможет повысить эффективность контроля и предотвратить нарушения этики судьями.
-
4. Формирование нравственного императива юриста начинается еще в процессе его профессиональной подготовки. Важно, чтобы будущие судьи получали соответствующее образование и воспитание, которые помогут им понимать значение нравственных принципов в их профессии, справляться с этическими вызовами, которые неизбежно возникают в ходе их профессиональной деятельности.
Список литературы Нравственный императив судьи: к проблеме доминантных этических дефиниций в процессе профессиональной подготовки специалиста
- Белобрыкина О.А. Категория "честность" как социально-психологический феномен: краткий очерк историогенеза научных и общественных представлений о содержании понятия (сообщение 2) // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2018. № 3. С. 43-63. EDN: ZAESBF
- Иванский В.П. Понятие беспристрастности судьи при осуществлении правосудия: основные концептуальные подходы // Право и управление. XXI век. 2021. Т. 17, № 1 (58). С. 26-34. DOI: 10.24833/2073-8420-2021-1-58-26-34 EDN: XRDNDO
- Маркеев А.И., Цукерблат Д.М. Соотношение права и морали в деятельности современного судьи // Евразийская адвокатура. 2020. № 5 (48). С. 79-86. EDN: NPLWWI
- Отческая Т.И., Мишакова Н.В., Голощапова Т.И. Честность как базисная составляющая профессионального профиля судьи // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 463. С. 240-250. DOI: 10.17223/15617793/463/30 EDN: AOJJXV
- Платон. Диалоги. М., 2019. 464 с.
- Прокофьев А.В. Пристрастность, беспристрастность и феноменология морального опыта // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 70. С. 207-216. DOI: 10.17223/1998863X/70/19 EDN: KEYGDG
- Якушева Т.В., Стародубцева М.А. Совесть судьи при оценке доказательств для постановления приговора как конституционная гарантия государственной защиты прав подсудимого // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2019. № 1. С. 144-149. DOI: 10.24411/2304-120X-2019-13008 EDN: YURHZR
- Ярославцев В.Г. Нравственное правосудие и судейское правотворчество. М., 2007. 304 с. EDN: QXHMNN