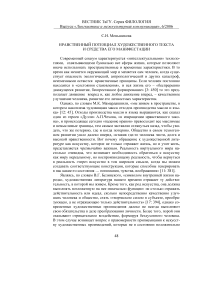Нравственный потенциал художественного текста и средства его манифестации
Автор: Меньшикова Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 6, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120420
IDR: 146120420
Текст статьи Нравственный потенциал художественного текста и средства его манифестации
НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И СРЕДСТВА ЕГО МАНИФЕСТАЦИИ
Современный социум характеризуется «интеллектуальными» технологиями, охватывающими буквально все сферы жизни, которые позволяют иначе использовать пространственные и временные характеристики. В то время как меняется окружающий мир и меняется сам человек, когда существует опасность экологической, антропологической и других катастроф, неизменными остаются нравственные принципы. Если человек постоянно находится в «состоянии становления», и вся жизнь его – «беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование» [3: 450] то это предполагает движение вперед и, как любое движение вперед, – качественное улучшение человека, развитие его личностных характеристик.
Однако, по словам М.К. Мамардашвили, «мы живем в пространстве, в котором накоплена чудовищная масса отходов производства мысли и языка» [12: 45]. Отходы производства мысли и языка выражаются, как сказал один из героев «Дуэли» А.П.Чехова, «в извращении нравственного закона», и происходящее сегодня «падение нравов» превосходит все мыслимые и немыслимые границы, тем самым заставляя оглянуться назад, чтобы увидеть, что же потеряно, где и когда потеряно. Общество в своем техногенном развитии ушло далеко вперед, оставив где-то человека чести, долга и высокой нравственности. Вот почему обращение к художественной литературе как искусству, которое не только отражает жизнь, но и учит жить, представляется чрезвычайно важным. Реальность виртуального мира настолько очевидна, что возникает необходимость обратиться к искусству как миру нереальному, но воспроизводящему реальность, чтобы вернуться в реальность «через искусство в том широком смысле, когда мы можем создавать соответствующие конструкции, которые способны генерировать в нас какие-то состояния … понимания, чувства, воображения» [11: 381].
Являясь, по словам В.Г. Белинского, «символом внутренней жизни народа», художественная литература нашего времени отражает ту действительность, в которой мы живем. Кроме того, как род искусства, она должна выполнять возложенную на нее изначально функцию: не столько отражать действительность или идеал, сколько непосредственно качественно улучшать человека и общество, стать «творческою силою в субъекте, преобразующею, а не отражающею только действительность» [17: 394], однако современные художественные произведения далеко не всегда выполняют свои обязательства в деле преобразования личности. Более того, порой они оказывают отрицательное воздействие, формируя бездуховного человека. В этом случае возникает вопрос о правомерности приписывания к искусству художественных произведений, которые не в состоянии положительно воздействовать на личность. Нельзя не согласиться с высказыванием В.Г. Белинского о том, что «основание нравственности лежит в глубине духа – источника всего сущего… и отделить вопрос о нравственности от вопроса об искусстве так же невозможно, как и разложить огонь на свет, теплоту и силу горения» [3: 438].
Задача данной статьи заключается в том, чтобы выявить нравственный потенциал художественного текста посредством вербальной манифестации концепта СОВЕСТЬ с той целью, чтобы в дальнейшем выяснить возможность его воздействия на формирование языковой личности.
Рассматривая понятие «художественное произведение» как многомерную информационную систему, имеющую сложную структуру, а также как форму существования искусства, необходимо уточнить, что понимается под «художественностью», которая является образным отражением жизни. Вопрос о наличии или отсутствии ее в художественном произведении определяется исходя из критериев художественности, которая, согласно «Словарю литературоведческих терминов», есть «внутреннее единство глубокого осознания художником действительности и совершенство образной системы, передающей это осознание» [14: 453]. Основным критерием художественности считается изображение жизненной правды при идейно-художественной целесообразности всех элементов произведения.
Поскольку понятие «художественность» являлось общепризнанным, то долгое время оно не предполагало каких-либо добавлений в существующие дефиниции, и основным критерием данного понятия считались, в первую очередь, «правдивость» и «идейность», однако современная научная парадигма вносит свои коррективы в, казалось бы, незыблемые понятия. В специальных исследованиях, посвященных художественности, критерии ее несколько размыты, и в основном она трактуется как «способность произведения искусства воспроизводить действительность в образной форме» [13: 8]. В.И. Тюпа полагает, что «вопрос о художественности – это вопрос специфического единства формы и содержания, автора и читателя в литературном произведении, т.е. целостности произведения, ее эстетической природы» [18: 5]. Н.Л. Галеева в своем исследовании отмечает, что понятие «художественный» в последнее время рассматривается как жанровая характеристика, уже включающая эстетическую ценность, которая в действительности может отсутствовать. Основная задача текста, имеющего параметр художественности, – «обогащать духовное пространство человека и культуры в целом. Текст… пробуждает рефлексию, приводящую к образованию некоторого пространства понимания, в котором рефлексия фиксируется в виде духовных сущностей – смыслов и идей, которые в свою очередь способны обогащать духовное пространство» [5: 148]. Согласно Н.Л. Галеевой, мерой художественности текста будет являться мера пробуждения рефлексии. Однако можно констатировать вслед за автором, что, несмотря на существующую давнюю традицию описания художественности, до сих пор не выработаны ее четкие критерии. Старые концепции, бе- рущие начало от Аристотеля, не объясняют всю сущность данного явления, новые мало чем отличаются от старых. Несомненно, художественный текст воздействует на духовность человека именно силой художественности. Следует отметить, что с неменьшей силой воздействуют на человека и нехудожественные тексты, только они не затрагивают духовности. Вопрос о противопоставлении художественных и нехудожественных текстов находится за рамками данной статьи, но он, несомненно, представляет определенный интерес, если мы говорим о нравственном потенциале текстов, способных «пробуждать рефлексию».
В свое время В.Г. Белинский сформулировал тезис: «Истинно художественное произведение возвышает и расширяет дух человека до созерцания бесконечного…», другими словами, обогащает духовное пространство человека. Исходя из этого тезиса, можно попытаться обозначить основные критерии художественности. Во-первых, художественность текста неразрывно связана с нравственностью: «...всякое истинно или действительно художественное произведение не может не быть положительно нравственным» [3: 439], следовательно, наличие нравственного потенциала в художественном произведении – важнейший критерий художественности. Не будучи художественным, произведение не может быть нравственным и, соответственно, не может влиять на духовное пространство личности.
Во-вторых, можно отметить, что художественная литература, основываясь на естественном языке, вырабатывает свой собственный, вторичный, язык, и «чтобы некоторую совокупность фраз естественного языка признать художественным текстом, следует убедиться, что они образуют некую структуру вторичного типа» [9: 33]. Все, что пишет автор художественного произведения, нельзя непосредственно соотносить с его личностью, поскольку автор является не конкретным лицом, а «организующей инстанцией» (А. Скафтымов) и, согласно М. Бахтину, «облекается в молчание» [2: 353]. Началом любого творческого действия является эмоциональная рефлексия, и потому не может быть художественным произведение, в котором изображены «вопли самого поэта» (В. Белинский), а не сотворенная им новая реальность вымышленного мира как необходимое условие искусства.
К одному из критериев художественности можно отнести уникальность, единичность художественного произведения, в котором автор стремится, в первую очередь, раскрыть сущность своей личности, разобраться в себе, как явлении единственном и неповторимом, через сложный, нереальный мир художественного текста, проецируя его на действительность. Именно уникальность художественных произведений русской классической литературы позволяет черпать из нее как из неиссякаемого источника нравственные законы, которые в той или иной степени находят отражение практически во всех произведениях. Как отметил А.А. Григорьев, «создание истинного художника в высокой степени нравственно… в том смысле, что оно живое создание» [6: 96], если нравственность рассматривать как
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 6/2006___ неотъемлемую часть художественности. При этом религиозные философы считали, что отечественная словесность прославила себя в мировой культуре «непревзойденной высотой нравственной проблематики и мастерством психологической разработки» [10: 30], раскрыв при этом жизнь человека плотского, душевного, но не духовного. А.М. Любомудров пишет о том, что освоение духовной реальности возможно в рамках духовного реализма, понимаемого как «художественное восприятие и реальное присутствие Творца в мире», при этом «художественное произведение может быть православным, не утрачивая качества подлинной художественности» [10: 6]. Когда мы говорим о нравственности, то апеллируем к христианским заповедям, которые в качестве инвариантного ядра существуют в произведениях, имеющих художественность.
Отдельные люди или народы при наличии многих конфессий могут иметь разное представление об устройстве мира, справедливости и т.д., что может порождать споры и даже непримиримые конфликты, однако наличие общей нравственной платформы позволяет им оставаться в пространстве этических норм. В.С. Соловьев определял общество как дополненную, или расширенную личность, а личность – как сжатое, или сосредоточенное, общество. При таком понимании личности и общества «действительная нравственность есть должное взаимодействие между единичным лицом и его данною средою» [16: 286], и нравственность каждого проявляется в его отношении ко всему, что его окружает, прежде всего через совесть – одну из фундаментальных моральных категорий. Понятие «совесть» неразрывно связано с понятием «личность», а личность – с обществом. А.Н. Леонтьев писал, что «учение о личности без этого слова… это учение о чем-нибудь, только не о личности. В лучшем случае о личности, потерявшей совесть» [8: 505]. В русской языковой картине мира совесть «мыслится как нравственный тормоз», она, согласно мнению Ю.Д. Апресяна, «выводит мировосприятие человека за пределы его собственных интересов и заставляет его взвешивать свои действия и действия других людей на весах высшей справедливости» [1: 354].
Совесть обычно определяют как эмоционально-рациональную способность критически оценивать себя исходя из имеющихся представлений о добре и зле. Согласно словарным дефинициям, совесть – «этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю, сторону ее самосознания… Совесть включает и самооценку уже совершенных действий на основе понимания человеком своей ответственности перед обществом… Совесть, кроме того, предполагает способность индивида критически относиться равно к своим и чужим мнениям в соответствии с объективными потребностями общества, а также ответственность человека не только за собственные действия, но и за все то, что происходит вокруг него» [19: 434]; совесть – это «понятие морального сознания, внутренняя убежденность в том, что является добром и злом. Совесть – это выражение способности личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков» [4: 1118]. Таким образом, совесть – неотъемлемая составляющая каждого человека независимо от того, осознает он это или нет. Поскольку жизнь человека детерминирована существованием всего человечества, то каждому человеку необходимо понимать, принимать и исполнять общее дело как свое собственное. И в этом ему помогает сложившийся в общественном сознании нормативный стереотип совести.
Несмотря на то, что слово «совесть» имеет достаточно четко выраженное значение в различных словарях, в художественной литературе его необходимо рассматривать несколько шире – как концепт, имеющий определенную актуальность и значимость в концептосфере народа. В современном языкознании слово «концепт» имеет достаточно большое количество различных дефиниций и, соответственно, методов исследования. Наиболее точное и универсальное понимание концепта отражено в определении А.А. Залевской, где концепт представлен как «спонтанно функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера, подчиняющееся закономерностям психической жизни человека» [7: 543]. Концепт как единица мыслительной деятельности может быть манифестирован совокупностью языковых средств, но даже в художественном тексте, где можно использовать различные способы его представления, он не имеет четких очертаний, но поскольку он там мыслится, то, следовательно, может быть выявлен его символический смысл. Анализируя концепт СОВЕСТЬ , Ю.С. Степанов подчеркивает наличие целого ряда трудностей для его осознании и словесного изложения. Первая трудность состоит в том, что в современной русской жизни выражение нравственный закон почти не употребляется, и, вероятно, в связи с этим данный концепт «вообще избегают как-либо называть» [17: 752], тогда как именно нравственный закон, по его мнению, составляет ядро концепта СОВЕСТЬ .
Несмотря на неиспользование выражения нравственный закон , в настоящее время особый интерес проявляют к «ситуативной этике», т.е. к умению применять общепризнанные принципы в повседневной жизни. В этом случае правомерно обратиться к А.П. Чехову, чей «кодекс чести» не вызывает сомнений. Нравственная норма художественного произведения представляет собой важнейший компонент содержания этого произведения, и каждым писателем она представлена по-своему. «Чеховская нравственная норма может быть определена как духовное единение «личных тайн», как конвергентность индивидуальных внутренних миров» [18: 113]. Ю.С. Степанов утверждает, что сформулированные Чеховым для себя и своих близких моральные принципы «в наши дни могут рассматриваться как моральный кодекс современного русского человека. А сам Чехов важен здесь для нас не только как писатель, но как человек – пример нравственной личности» [17: 766].
В повести «Дуэль» сконцентрированы, кажется, все наиболее значимые нравственные проблемы, составляющие суть человеческого существования. Одна из них – пробуждение совести через осознание своих грехов – раскрывается в процессе «становления» главного героя, его изменения, формирования его личности. Несомненно, процесс не окончен, автор только наметил основные вехи, показав мучительный, непростой путь к самому себе, но уже важно то, что проблемы поставлены и пути намечены. Повесть называется «Дуэль», несмотря на то что самой дуэли отведено немного места; повесть, скорее, о стыде, о том, что нравственно, а что безнравственно, но именно дуэль, как высшее проявление зла, явилась катализатором духовного пробуждения героя.
В начале повести Лаевский характеризует себя как лишнего человека, неудачника, который говорит о себе, что он «жалкий неврастеник, белоручка», «натура вялая, слабая, подчиненная», но в этих словах нет раскаяния, есть констатация с некоторой долей самолюбования, присущего людям, которые позволяют сами о себе говорить плохо, но никогда не допустят делать это другим. И, обвиняя себя в отсутствии идеалов и «руководящей идеи в жизни», Лаевский смутно понимает, что это значит. Словосочетание «смутно понимает» можно отнести не только к мыслительной деятельности героя: оно характеризует его общее состояние, репрезентируемое в тексте с помощью следующих лексем и словосочетаний: «скверно», «слабость», «пустота», «головокружение», «нездоровится», «в голове пусто», «замирание сердца» «вялые, тягучие мысли», «сонливое угнетенное состояние», «каждый день одно и то же», «тяжелая ненависть». Все это создает определенное представление о вязкой, тягучей, бездеятельной жизни, когда ничего не хочется делать, когда все как бы нереально. Нереальность жизни передана Чеховым с помощью лексемы «казалось»: «Ему казалось, что он виноват…». Только казалось , что виноват, поэтому хотелось сбежать куда-то далеко, в новую жизнь, где можно быть «честным, умным, возвышенным и чистым». И даже природа, казалось, усыпляла его и заставляла чувствовать себя как бы в плену. Сонное состояние жизни определяет и сонное состояние совести. Однако происходят события, разбудившие спящую совесть не только главного героя.
Повесть занимает чуть более ста страниц, на которых 3 раза встречается слово «стыд», 3 раза – «стыдиться», 5 раз – «стыдно», а также лексические синонимы слова «стыдиться» – «сконфузился», «вспыхнула», «краснея», «красный», « в страшном смущении». «Совестно» герою становится тогда, когда появляются в нем жалость и чувство вины. Слово «совесть» появляется один раз как кульминация всего, о чем говорится в повести, как «видоизменение стыда в отчетливой и обобщенной форме» [15: 56].
Общеизвестно, что стыд – это непосредственная эмоциональная реакция человека на несоответствие, по его представлению, поступков, слов или мыслей нормам морали или правилам общественного поведния. Стыд проявляется у человека, прежде всего, как недовольство собой, как непри- ятное ощущение, возникшее из-за противоречия с ценностным установкам, принципами, убеждениями, хотя порой этих установок может и не быть. Человеку может быть стыдно не только из-за собственных действий, как плохих, так и хороших, но и из- за действий других людей, и в этом заключается принципиальное отличие двух понятий: «стыд» и «совесть».
Чувство стыда, достаточно автономное по отношению к морали, может возникать по разным поводам. Например, Самойленко, один из героев «Дуэли», «стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом» [20: 377]; когда Марья Константиновна показывала гостям отметки Кати, та не знала, куда спрятаться «от стыда и похвал». В данных случаях речь не идет о чем-то постыдном с точки зрения нарушения моральных норм, однако и излишняя доброта, и неловкость положения, когда тебя хвалят, вызывают чувство стыда, т.е. определенную реакцию, при которой человек чувствует себя некомфортно, неудобно. Стыдилась себя и Надежда Федоровна, отдавая себе отчет в недостойности поступков, но при этом понимала, что ничто не помешает ей «уступить нечистой страсти… и что она, как запойный пьяница, уже не в силах остановиться» [20: 439]. Испытывает чувство стыда «и за свой страх, и за свою грязную одежду» всегда смешливый дьякон. После произошедшей истерики Лаевскому «было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии» [20: 442], но стыдно не своих мыслей, поступков, своей никчемной жизни, а стыдно истерики, показанной всем слабости. При воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, стыдно стало Ачмианову. Стыд, который возникает не из-за своих проступков, а по поводу других людей, чаще всего появляется в том случае, когда унижается человеческое достоинство, независимо от того, сам ли человек унизил себя или был унижен кем-то.
Стыд, переходя от внутреннего отношения к себе в область нравственных законов, трансформируется в совесть. Совесть, в отличие от стыда, имеет своим основанием представление человека о добре и зле, и в первую очередь зависит от способности человека судить самого себя и раскаиваться в поступках, которые противоречат «законам совести». Согласно В.С. Соловьеву, «стыд и совесть говорят разными языками и по разным поводам, но смысл того, что они говорят, один и тот же: это не добро, это не должно, это недостойно. Такой смысл уже заключается в стыде; совесть прибавляет аналитическое пояснение: сделавши это недозволенное и недолжное, ты виновен во зле, грехе, преступлении» [15: 133]. Ночь перед дуэлью, когда возможность смерти реальна как никогда, заставляет героя иначе посмотреть на свою жизнь – уже с позиций «проснувшейся» совести. Интересно отметить, что «просыпание» совести А.П. Чехов описывает через внешнее изменение героя, через появившееся в его «теле что-то новое», появляется какая-то неловкость, которой раньше не было. Гроза, как сила, не подвластная людям, помогает герою подняться над обыденностью жизни и увидеть то, что было скрыто от него столько лет: «зачатки прекрасной, чистой жизни», которые безвозвратно исчезли, и грехи, которых не
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 6/2006___ замечал, да и не хотел замечать, потому что «его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала» [20: 461]. Совесть открывает ему то, что он, «живя среди живых…только разрушал, губил и лгал, лгал». Чехов высказывает мысль, которая является квинтэссенцией не только повести «Дуэль», но и всего творчества писателя: «жизнь дается только один раз и не повторяется», именно поэтому путеводной звездой каждого человека должна быть совесть как нравственный закон жизни. В данном высказывании концепт СОВЕСТЬ не обозначен лексемой «совесть», но он манифестируется языковыми средствами через имеющую символический смысл «не-повторяемость» жизни. В финале повести Лаевский, наблюдая, как лодка борется с волнами, приходит к выводу, что «в поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад… но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед…» [20: 479]. Жажда правды в обыденном сознании может трактоваться по-разному, но у Чехова она приобретает тот же символический смысл, через который отчетливо прорисовывается концепт СОВЕСТЬ . Жажда правды – это, прежде всего, жажда понять себя, открыть для себя нравственные законы, жить, руководствуясь совестью как способностью нести ответственность за все, что делаешь на этой земле.
Таким образом, нравственные концепты находят свое отражение в художественных произведениях, имеющих художественность в качестве основного критерия нравственности.