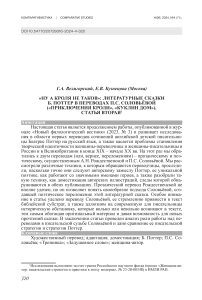"Ну а кроля не таков": литературные сказки Б. Поттер в переводах П.С. Соловьёвой ("Приключения кроли", "Куклин дом"). Статья вторая
Автор: Велигорский Г.А., Кузнецова Е.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья является продолжением работы, опубликованной в журнале «Новый филологический вестник» (2023, № 3) и развивает исследования в области первых переводов сочинений английской детской писательницы Беатрис Поттер на русский язык, а также касается проблемы становления творческой идентичности женщины-переводчицы и женщины-писательницы в России и в Великобритании в конце XIX - начале ХХ вв. На этот раз мы обратились к двум переводам (или, вернее, переложениям) - прозаическому и поэтическому, осуществленным А.Н. Рождественской и П.С. Соловьёвой. Мы рассмотрели различные техники, к которым обращаются переводчицы, проследили, насколько точно они следуют авторскому замыслу Поттер, ее уникальной поэтике, как работают со значимыми именами героев, а также разобрали такую технику, как доместикация авторских иллюстраций, следы которой обнаруживаются в обеих публикациях. Прозаический перевод Рождественской не вполне удачен, но он позволяет понять своеобразие подхода Соловьёвой, создавшей поэтическое переложение этой литературной сказки. Особое внимание в статье уделено переводу Соловьёвой, ее стремлению привнести в текст библейский субстрат, а также аллюзиям на современную для писательницы историческую обстановку, которые вольно или невольно возникают в тексте, тем самым обогащая оригинальный материал и давая возможность для новых прочтений сказки. В заключении статьи проведен анализ роли работы над переводами в писательской судьбе Соловьёвой и дано сравнение ее писательской стратегии и стратегии Поттер.
Художественный перевод, адаптация, доместикация, б. поттер, п.с. соловьёва, «тропинка», «задушевное слово», женщина-автор, художественный перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149147130
IDR: 149147130 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-320
Текст научной статьи "Ну а кроля не таков": литературные сказки Б. Поттер в переводах П.С. Соловьёвой ("Приключения кроли", "Куклин дом"). Статья вторая
Настоящая статья является продолжением работы, опубликованной в журнале «Новый филологический вестник» (2023, № 3) и развивает исследования в области первых переводов сочинений английской детской писательницы Беатрис Поттер на русский язык, а также касается проблемы становления творческой идентичности женщины-переводчицы и женщины-писательницы в России и в Великобритании в конце XIX – начале ХХ вв. На этот раз мы обратились к двум переводам (или, вернее, переложениям) – прозаическому и поэтическому, осуществленным А.Н. Рождественской и П.С. Соловьёвой. Мы рассмотрели различные техники, к которым обращаются переводчицы, проследили, насколько точно они следуют авторскому замыслу Поттер, ее уникальной поэтике, как работают со значимыми именами героев, а также разобрали такую технику, как доместикация авторских иллюстраций, следы которой обнаруживаются в обеих публикациях. Прозаический перевод Рождественской не вполне удачен, но он позволяет понять своеобразие подхода Соловьёвой, создавшей поэтическое переложение этой литературной сказки. Особое внимание в статье уделено переводу Соловьёвой, ее стремлению привнести в текст библейский субстрат, а также аллюзиям на современную для писательницы историческую обстановку, которые вольно или невольно возникают в тексте, тем самым обогащая оригинальный материал и давая возможность для новых прочтений сказки. В заключении статьи проведен анализ роли работы над переводами в писательской судьбе Соловьёвой и дано сравнение ее писательской стратегии и стратегии Поттер.
ючевые слова
Художественный перевод; адаптация; доместикация; Б. Поттер; П.С. Соловьёва; «Тропинка»; «Задушевное слово»; женщина-автор.
G.A. Veligorsky, E.V. Kuznetsova (Moscow)
“WELL, THE RABBIT IS NOT LIKE THAT”: B. POTTER’S LITERARY FAIRY-TALES TRANSLATED BY P.S. SOLOVYOVOYA (“RABBIT’S ADVENTURES”, “THE DOLL-HOUSE”). THE SECOND ARTICLE1
bstract
A
This article is a continuation of the work published in the journal “The New Philological Review” ( Novyy Philologichesky Vestnik , 2023, No. 3) and develops research in the field of the first translations of the works of the English children’s writer Beatrix Potter into Russian, and also touches on the problem of the formation of the creative identity of a woman translator and a woman writer in Russia and Great Britain in the late 19th – early 20th centuries. This time we turned to two translations (or rather, retellings) – prose and poetic, carried out by A.N. Rozhdestvenskaya and P.S. Solovyova. We examined the various techniques used by the translators, traced how accurately they followed Potter’s original intent, her unique poetics, how they worked with the significant names of the characters, and also analyzed such a technique as the domestication of the author’s illustrations, traces of which are found in both publications. Rozhdestvenskaya’s prose translation is not entirely successful, but it allows us to understand the uniqueness of Solovyova’s approach, who created a poetic retelling of this literary fairy tale. The article pays special attention to Solovyova’s translation, her desire to introduce a biblical substratum into the text, as well as allusions to the writer’s contemporary historical setting, which voluntarily or involuntarily arise in the text, thereby enriching the original material and providing an opportunity for new readings of the fairy tale. In conclusion, the article analyzes the role of work on translations in Solovyova’s literary career and compares her writing strategy with Potter’s.
s
Children’s literature; literary translation; adaptation; domestication; B. Potter; P.S. Solovyova; “Path”; “Heartfelt Word”; female author.
В первой части нашей статьи, напечатанной в настоящем журнале (2023. № 3(66)), мы кратко рассмотрели историю создания и издания британской писательницей Беатрис Поттер (1866–1943) ее первых сочинений – литературных «Сказки о кролике Питере» (“The Tale of Peter Rabbit”) и «Сказки о Бенджамине Банни» (“The Tale of Benjamin Bunny”), опубликованных соответственно в 1902 и 1904 гг., а также сопоставили оригинал с переводом Поликсены Соловьёвой (1867–1924) «Приключения Кроли», выпущенным в 1914 г. Однако за пределами той статьи остались некоторые важные вопросы, касающиеся сравнения двух женских писательских стратегий и судеб, которые мы можем наблюдать на примере Поттер и Соловьёвой. В данной статье, обратившись к другим переводческим опытам Соловьёвой, а также к переводам А.Н. Рождественской, мы о светим не только особенности этой переводческой практики, но и значение этой работы для их писательского самоопределения.
***
«Сказка о двух нехороших мышах» (“The Tale of Two Bad Mice”, 1904) стала пятым по счету сочинением Беатрис Поттер, изданным ею в «карманной серии» (pocket-books) книг для детей с авторскими иллюстрациями и дизайном. Это был уже второй ее опыт сочинения о мышах – дебютом стал «Портняжка из Глостера» (“The Tailor of Gloucester”, 1903), – и первый случай, когда в книге, адресованной маленькому читателю, столь рельефно отразились метания авторский души.
Ко времени выхода этой сказки в свет Б. Поттер была уже не только известным, но и коммерчески преуспевающим автором. Предыдущие ее книги расходились многотысячными тиражами («Кролик Питер» в 1904 г. «перемахнул» рубеж в 50 тысяч копий [см.: Taylor 1987, 76]), – и их создательница, обладавшая несомненной коммерческой жилкой, тщательно выбирала дальнейшие векторы для творческого развития. Сказки ее постепенно становятся пространнее, дополняются новыми деталями, а сюжеты их делаются сложней при сравнительно нехитрых коллизиях.
Содержание сказки следующее. В игрушечном домике в детской живут две куклы, Люсинда и Джейн. Однажды хозяйка, маленькая девочка, увозит их на прогулку, а в домик пробираются две мышки; последние хотят чем-то полакомиться и радуются, обнаружив накрытый стол с блюдами и угощениями, однако оказывается, что все они сделаны из папье-маше. Рассерженные мыши устраивают в доме разгром, забирают кое-что из его обстановки – и спешно сбегают, завидев возвращающихся няню и девочку. Найдя домик разгромленным, девочка решает поставить у дверей куклу полицейского, а няня добавляет, что хорошо бы установить мышеловку. Заканчивается сказка сообщением автора, что мышки, будучи не такими уж и проказницами (naughty), застыдились своей выходки и положили под ковер четвертак, а одна из них с того времени регулярно наведывается в дом и приводит его в порядок.
Известно, что вдохновением для этой сравнительно небольшой (всего 900 слов, считая служебные) сказки послужили два случая. Первым из них стала поимка двух мышей, попавшихся в клетку-ловушку в особняке Хэрскум-грей-ндж, который принадлежал кузине писательницы Кэролайн Хаттон. Поттер спасла маленьких узниц и забрала их с собой, после чего возила везде как питомцев. Считается (хотя и не доказано достоверно), что они сопровождали ее и в Гастингсе в 1903 г., где велась работа над сказкой о мышках [см.: Taylor 1987, 118]. Вторым стимулом для писательницы стал кукольный домик: он был смастерен Норманом Уорном (издателем и, впоследствии, женихом Б. Поттер) для его племянницы Уинфред и представлял собой, по его словам, «точную копию эдвардианского дома в пригороде» [Taylor 1987, 119]. Поттер не раз видела этот домик, когда бывала у Уорна в гостях, – и именно этой игрушке предстояло потом найти отражение на страницах сказки.
Первую версию «Сказки о двух нехороших мышках» Поттер записала в путевую тетрадь (copy-book) в период с 26 ноября по 2 декабря 1903 г., когда она гостила у родных в Гастингсе, во время «недели проливного дождя» [Taylor 1987, 118]. Завершив ее текст вчерне, она напишет Уорну: «<...> сказка про кукол вышла очень потешная – но стоит ли, право, так скоро публиковать еще одну историю про мышей?» [цит. по: Linder 1971, 141].
Норман Уорн, уже тогда влюбленный в Беатрис, примет деятельное участие в работе над иллюстрациями. На Рождество 1904 г. он смастерит для возлюбленной еще один домик – без кукольной обстановки, зато со стеклянными стенами и лесенкой, по которой мыши могли взбираться наверх; прозрачные грани позволяли писательнице наблюдать за зверьками и делать их детальные зарисовки [см.: Lear 2007, 176]. Причастен был Уорн и к появлению двух кукол – прообразов Люсинды и Джейн: он купил их в магазине на перекрестке «Семь стрелок» (Seven Dials) – средоточии лондонской сувенирно-торговой жизни – и отправил Поттер посылкой. Благодарная писательница откликнулась сразу по получении (в письме от 18 февраля):
Благодарю Вас за этих чудесных куколок; именно то, что мне было нужно! <...>. Думаю, выйдет премилая книжица <...>. Буду рада, если [добудете] мне еще небольшую печурку и [гипсовый] окорок; а если нет – не беда: и так тружусь с огромнейшим удовольствием! [цит. по: Linder 1971, 151].
Уорн в скором времени действительно прислал гипсовую еду и кукольную посуду. Последней явилась кукла полицейского: она принадлежала Уинфред и была взята у нее взаймы; девочка неохотно рассталась с любимцем, однако утешилась, когда кукла была вскоре возвращена [см.: Linder 1971, 151].
В апреле-мае 1904 г. Поттер делает многочисленные зарисовки мышей (два десятка таковых она пересылает в письмах к Н. Уорну), а также фотографии кукольного домика (не менее двадцати). В конце весны рукопись уходит в издательство; в июне писательница получает первые гранки и вносит исправления в текст, которыми, после повторной его вычитки, остается довольна [см.: Linder 1971, 152–153]. Наконец, в сентябре 1904 г. «Сказка о двух нехороших мышах» выходит внушительным тиражом в 20 тыс. экземпляров и в двух разных переплетах – обычном картонном и эксклюзивном «подарочном», эскиз которого разработала сама Поттер [см.: Lear 2007, 178, 181].
Рецензенты восторженно встретили новую книжку; так, обозреватель из журнала “Bookman” уподобил это издание «[изысканной] фарфоровой статуэтке» и назвал ее образчиком «ежегодного чуда <...> на радость всей детворе» [цит. по: Lear 2007, 185].
Несмотря на популярность у юных читателей, в подтексте истории о кукольном домике прочитывается горькое томление писательницы, желание вырваться из оков, налагаемых на нее обществом и семьей, главным образом матерью: последняя возражала против сближения дочери с Норманом Уорном, запретила ей пользоваться семейным экипажем, а прислуге велела не запускать в дом «невесть кого» (к числу которых, по мнению пожилой дворянки, относился и «ремесленник» Уорн) [см.: Lear 2007, 176]. Звучат в этой истории и отголоски воспоминаний Поттер о невеселом детстве взаперти, прошедшем на четвертом этаже, в комнатке с зарешеченными окошками, да и в целом восприятие викторианского женского бытия как «претенциозной <...> жизни в кукольном домике» [Carpenter 1985, 148].
В связи с мотивом ненавистной для женщины бессмысленной «кукольной жизни» нельзя не упомянуть другое знаковое произведение предмодернист-ской литературы о женской доле (и о свободе личности вообще) – пьесу «Кукольный дом» (“Et dukkehjem”, 1879) норвежского драматурга Г. Ибсена. Эта пьеса была поставлена в Англии в 1884 г. (в том же году, что и в России; см. об этом далее в тексте). На протяжении двух десятков лет она шла на английской сцене в переводе-адаптации с немецкого языка, осуществленном Генри Артуром Джонсом (1851–1929) и Генри Германом (1832–1894) под названием
«Обрывая бабочке крылья» (“Breaking a Butterfly”) – причем оригинальное название (“A Doll’s House”) также бытовало в театральной среде – и пользовалась успехом у публики [см.: Jones 1913, 208]. Поттер, горячо любившая театр, если и не бывала на ее постановке, то по крайней мере не могла не слышать о ней. (Не звучит ли, кстати, имя «Анна-Мария», упоминаемое в истории Котика Тома (“The Tale of Tom Kitten”) и чуждое для английского уха – как еще один ее отголосок?)
***
В настоящее время «Сказка о двух нехороших мышках» переведена, по меньшей мере, на тридцать языков; и первым таким переводом, как и в случае с «Кроликом Питером», стало переложение на русский язык, появившееся в журнале «Задушевное слово».
Судя по всему, творчество Б. Поттер находилось в пристальном поле зрения редакторов упомянутого журнала. В первой части статьи мы уже писали о «Приключениях Пети-кролика», появившихся на его страницах в 1908 г. Два года спустя, в 1910-м (№ 51–53) в журнале будет напечатан рассказ Г.Г. Томсона «Машка Котофеевна» в сопровождении рисунков Б. Поттер, заимствованных из ее «Сказки о мясном пироге» (“The Pie and the Patty-Pan”, 1906). И вот наконец в 1911 г. (№ 36–39) был сериализован перевод истории о мышах и куклах, осуществленный А.Н. Рождественской (1849 – после 1917) под названием «О двух скверных мышках» и с указанием авторства: «Рассказ Беатрисы Поттер». Как и «Петя-кролик», этот перевод сопровождался оригинальными (воспроизведенными фототипически) рисунками, был сравнительно точным, стремившимся к тексту исходника – и притом парадоксально удалялся от замысла автора.
Перевод Рождественской выдержан в поэтике классических сказок, от которой Б. Поттер сознательно абстрагировалась. Так, он во многом строится на инверсиях подлежащего и сказуемого: «Решили мышки положить рыбу в печь <...>»; «Оставили мышки в покое столовую <...>» [Поттер 1911, 606]. Спорных лексических решений, в сравнении с «Петей-кроликом», здесь существенно меньше; есть и удачные находки, например, “crinky paper”, переданное как «витая бумага» [Поттер 1911, 606]. В то же время, встречаются попытки «заигрывать» с маленьким читателем (решительной противницей которых была сама Поттер) – например, через использование уменьшительных суффиксов, когда нейтральное “beautiful” передается как «красив еньк ий» (зде сь и далее курсив везде наш) [Поттер 1911, 590]. Восклицания, вкладываемые переводчицей в уста героев, весьма стандартны (« Ого ! да у них образцовое хозяйство!»; « Ага ! да тут ничем не полакомишься <...>» [Поттер 1911, 622]), а звукоподражания – важнейшая черта поэтики Поттер – опускаются вовсе: “He put the ham in the middle of the floor, and hit it with the tongs and with the shovel – bang, bang, smash, smash!” [Potter 1905, 39] – «Рассерженный Фомка схватил лопатку и ожесточенно набросился на окорок» [Поттер 1911, 605]; ср. этот же эпизод в современном переводе Н.М. Демуровой: «Он вытащил окорок на середину пола и стал колотить по нему каминным совком и щипцами – хрясть! хрясть! дрызг! дрызг!» [Поттер 2006].
Прозаический перевод Рождественской, к которому мы еще далее обратимся, позволяет понять своеобразие подхода Соловьёвой, создавшей поэтическое переложение этой литературной сказки.
***
В 1916 г. в книгоиздательстве «Тропинка» выходит еще одно осмысление «Сказки о двух нехороших мышах» – версия П.С. Соловьёвой под заглавием «Куклин дом». Напомним, что к тому времени Соловьёва уже была не только состоявшейся поэтессой – автором сборников стихов «Иней» (1905), «Плакун-трава» (1909), цикла для детей «Ёлка» (1912) и др., но и зарекомендовала себя как переводчица и издательница. Она перевела, практически одновременно с Рождественской, сказочную повесть Л. Кэрролла («Алиса в Стране Чудес», 1909), «Жизнь Хитролиса» (изложение французского «Романа о Лисе», 1910), издала «Приключения Кроли» (1914), объединившие в одном переводе две сказки Поттер; на протяжении многих лет (совместно с Н. Манасеиной) выпускала журнал «Тропинка» (1909–1912 гг.), а также была главой одноименного издательства (1905–1916 гг.). Последнему не суждено будет пережить экономический кризис, вызванный Первой мировой войной: летом 1916 г. Соловьёва и Манасеина переедут в Коктебель, где и вынуждены будут остаться на долгие годы (до 1923-го), а издательство прекратит свое существование. «Куклин дом» станет одной из последних книг, подготовленных к печати «Тропинкой».
Как и «Приключения Кроли», «Куклин дом» является не столько переводом, сколько вольным осмыслением оригинального текста, переложенного звонким стихом (с парной или, реже, перекрестной рифмовкой). Здесь прослеживаются то же чуткое обращение с оригиналом – внимание к поэтике автора, работа с лексикой, умелое переименование персонажей (с подбором звучных имен), – и то же стремление Соловьёвой усилить нравоучительный и библейский субстрат. Измененное заглавие явно акцентировало перекличку с пьесой Г. Ибсена. Наконец, в «Куклином доме» мы обнаруживаем и новый подход к обращению с иллюстрациями, которые Соловьёва не только перерисовывает вручную, но и «адаптирует» для читателя.
Макет издания (заставки к каждой главе, инициалы-«буквицы», концевые замки́ и виньетки) были разработаны самой Соловьёвой. Ей же принадлежит и дизайн обложки: она рисует растительный орнамент – густую вязь из березовых синелистых ветвей, – а также раму, в который вписана реплика с рисунка Поттер – белая мышка в платьице, держащая в лапках щетку и совок.
Небольшая сказка в версии Соловьёвой превращается в пространное стихотворение в 10 главках – по сути, микро-поэму, или, в авторской дефиниции, «рассказ в стихах». Как мы увидим далее, переводчица не пытается «разгонять объем», как это делала Рождественская, но расширяет текст за счет детальнейших, живых описаний, дает пейзажные зарисовки, нравоучительные пассажи, развертывает новые сюжетные пласты и даже вводит дополнительных персонажей.
Говоря о последних, нужно сказать, что в тексте оригинала, помимо мышей и кукол, фигурируют только девочка, няня (с единственной репликой: «Надо бы установить мышеловку»), а также безглагольный констебль. В версии Соловьёвой хозяйка кукол (обретающая у нее имя Саша, а также конкретный возраст – семь лет) и безымянная нянюшка становятся полноценными персонажами, которые ведут диалоги, спорят, резонерствуют и в целом продвигают сюжет. Помимо них в текст вводится фигура рассказчика – прием, не чуждый и Поттер: рассказчица фигурировала в «Сказке о кролике Питере», и будет появляться в последующих историях, наиболее выпукло – в «Сказке о поросенке Лапушке» (“The Tale of Pigling Bland”, 1913).
Но, несмотря на все оговорки, этот перевод, как и «Приключения Кроли», удивительно созвучен источнику. «Куклин дом» – это авторский, удивительно яркий поэтический текст; он изобилует уникальными сравнениями: «Хвостик тонкий, как травинка» [Соловьёва 1916, 16]; «Ветчина как пень жестка» [Соловьёва 1916, 22]; «И скользила, легче сна, / Вслед за ним его жена» [Соловьёва 1916, 40]; некоторые из них разворачиваются в импрессионистические картины: «Что-то красное мелькает, / И сверкает, и ползет, / Как стеклянный водомёт» [Соловьёва 1916, 32]. Широко использует поэтесса любимый прием Поттер – звукоподражания: «Вдруг – трах, скок! / Блюдо и окорочок / Друг от друга отделились...» [Соловьёва 1916, 23]; «В лапки Хруп схватил совок / От камина, да как скок! / И пошел: бац-бум-дзинь-трах! / Позабыл мышиный страх» [Соловьёва 1916, 26]; «Смотрит Хруп, приподнял ухо: / “Зу-зу-зум-зум”, это муха» [Соловьёва 1916, 31].
Обе переводчицы адаптируют имена героев для русской традиции. В версии «Задушевного слова» Люсинда становится Люсей (куклы с таким именем упоминаются в литературе XX в. – к примеру, в знаменитой педагогической книге Л. Пантелеева «Наша Маша» (1966)); а вот кукла с именем Женя (как можно было бы передать английское Jane) для русской детской литературы нехарактерна, и потому она превращается в Аннушку. В версии Соловьёвой кукол зовут иначе – Юля и Дуняша; имена изменены произвольно, но ловко обыгрываются переводчицей, к примеру, в следующих рифмах: «Занавесочки из тюля / И на каждое окно. / Проживала кукла Юля / В этом домике давно» [Соловьёва 1916, 4]; «Голодает пеленашка... / Эта глупая Дуняшка / Здесь бездельницей живет...» [Соловьёва 1916, 25]; «Хороша и эта Юля! / И франтит, а замазуля» [Соловьёва 1916, 25] и др.
Обыгрывают переводчицы и имена мышей. В оригинале оба имени заимствованы из пьесы Генри Филдинга «Трагедия трагедий, или Жизнь и деяния великого Томаса по прозванию Мальчик-с-пальчик» (1730), незнакомой не только маленькому читателю того времени, но и многим взрослым в наши дни. В версии Рождественской Том, вполне традиционно, превращается в Фомку; имя же “Hunca-Munca” переводчица трактует как производное от слов “hunch” («горб») и “munch” («жевать») и переводит соответственно – «Чавка-Горбат-ка». Соловьёва, как и в случае с куклами, придумывает имена, не связанные с оригиналом, но звучные, запоминающиеся, подходящие мышкам – Хруп-Хруп и Шерстинка (при этом первое имя оказывается созвучен оригинальному Mun-ca), – и задействует их в рифмовке: «Тут заохала Шерстинка: <...> / Там вон – рис, а тут – коринка» [Соловьёва 1916, 32], «Запищав и сгорбив спинку, / Вслед глядела им Шерстинка» [Соловьёва 1916, 24].
***
Крайне важными нововведениями Соловьёвой являются иные смысловые акценты. Она намного сильнее, нежели Поттер, насыщает детскую историю аллюзиями на взрослую жизнь и вводит в подтекст морально-нравственные вопро сы. Если для понимания скрытых смыслов сказки Поттер нам надо знать ее биографию, отношения с матерью и возлюбленным, то в изложении Соловьёвой все очевиднее. Как мы отмечали выше, ей важен библейский субстрат. Если в «Приключениях Кроли» переводчица актуализировала образ запретного плода и грехопадения, то на сей раз она обращается к теме отпавшей от Бога души, представляемой в образе покинутого дома.
Один из центральных образов сочинения – домик, где живут Дуняша и Юля – представлен как грязное, запустелое место. В оригинале Поттер лишь коротко упоминает о том, что куклы не особо вели хозяйство, – объясняя это тем, что у них на столе всегда имелись готовые блюда [см.: Potter 1904, 10], – а о грязи не сообщает вовсе. Соловьёва, однако, возводит мысль о неряшливости хозяек во главу угла: «На кровати одеяло, / Словно листик розы вялой, / Всё измятое лежит. / Преплачевный в спальне вид...» [Соловьёва 1916, 13]; «Ах, как пыльно! Видно, щетка / Не гуляла здесь давно» [Соловьёва 1916, 20]; «Пыль и грязь везде кругом. / Препротивный куклин дом!» [Соловьёва 1916, 25]. Обозначает поэтесса и причину такого беспорядка – а именно леность двух хозяек, многократно повторяя слова с соответствующим корнем: «Дуня ленится – хоть брось!» [Соловьёва 1916, 7]; «По лентяйкам и обед» [Соловьёва 1916, 9] и т.д. Лень оказывается настолько могучей, что даже представлена как заразная болезнь: «Но, должно быть, Юли лень / И Дуняшу заразила» [Соловьёва 1916, 6].
Сам кукольный домик Соловьёва описывает как пространство заброшенное: «Дом в раздумье одиноком / Вслед глядел стеклянным оком» [Соловьёва 1916, 12], «И забытый куклин дом / Засыпал унылым сном» [Соловьёва 1916, 14]. К этому прибавляются образы пустоты, через которые акцентируется библейский мотив «мерзости запустенья»: «Солнце светит так умильно, / А внутри печально, пыльно» [Соловьёва 1916, 13]; «Если пусто всё внутри, / Грустно, что ни говори» [Соловьёва 1916, 12]. «Словом, куклин дом в беде» [Соловьёва 1916, 13], – акцентирует главную мысль рассказчик.
Выход из этой горестной ситуации, по Соловьёвой, возможен всего один – «гибель» запустелого домика; и ведущую роль в этой гибели сыграют именно мыши.Одно из характерных различий оригинала и данного перевода – иная мотивация поведения мышей. Если в версии Поттер Tom Thumb устраивает погром, будучи рассержен, что внутри нечем поживиться, то у Хруп-Хрупа, также недовольного «обманностью» блюд, мотивировка иная: «Беспорядок, сор повсюду. / Перебью им всю посуду» [Соловьёва 1916, 25]. Еще одним стимулом (также отсутствующим у Поттер) становится для мышей чадолюбие: они огорчены, что их мышата останутся без обеда: «А Шерстинка помогала: / Блюда мужу подавала. / (Было жалко ей детей.) / “Разобьем здесь всё скорей!”» [Соловьёва 1916, 27]. Обманчивая природа домика, грязь, запустение, безучастие хозяек к чужому горю становятся в итоге катализаторами – и достигают апогея в восклицании Хруп-Хрупа: «Пусть погибнет куклин дом!» [Соловьёва 1916, 27].
В контексте нарастающих революционных настроений в период неудач русской армии на Первой мировой войне в русскоязычном переложении гибель кукольного домика из-за лени и безответственности его хозяек и от рук мышей обретала вольные или невольные социально-политические аллюзии – борьба противоречий между дворянством и народом, вылившаяся в две революции 1917 г.
Парадоксальным образом учиненный мышами разгром является для запущенного дома спасением. Само их появление рассказчик описывает как благоволение милостивой судьбы («Но судьба нас пожалела »; «Расскажу я вам о том, / Как спасен был куклин дом» [Соловьёва 1916, 10]). Сами же мыши представлены не хулиганами, как у Поттер, но богобоязненными зверями, поминающими с благодарностью имя Божие [см.: Соловьёва 1916, 51] и вершащими Его благую волю, что и подчеркивается в финальных словах нянюшки: «Мышь ведь тоже Божий зверь » [Соловьёва 1916, 71].
Благодаря измененному названию намного ярче в версии Соловьёвой проявились аллюзии на «Кукольный дом» Ибсена – пьесу, ставшую благодаря по- становкам Вс. Мейерхольда самой знаковой иностранной драмой в культуре русского Серебряного века. Пьеса впервые была поставлена в России в 1884 г. (8 февраля 1884 г., Александринский театр, в роли Норы – М.Г. Савина) и с тех пор многократно игралась; в частности, известен фурор, с которым ее играла В.Ф. Комиссаржевская. Одна из постановок состоялась в 1914 г. (времени возникновения у Соловьёвой интереса к творчеству Б. Поттер) и была позитивно оценена столичной прессой [см.: Берков, Янковский 1957, 839–841]. Соловьёва могла быть знакома с этим текстом не только по переводу А. и П. Ганзен и театральным постановкам, но и по статье З. Венгеровой «Г. Ибсен» (1896). Если английское название текста никак не могло вызвать параллелей с Ибсеном (чья пьеса, впрочем, была созвучна чувствам Поттер, ее стремлению вырваться, подобно Норе Хельмер, из «кукольного домика» своего несносного бытия), то русское определенно звучало в этой полифонии, особенно учитывая популярность этой драмы среди русских символистов.
***
Наконец следует сказать несколько слов об еще одном новаторстве Соловьёвой как переводчицы: стремлении не только переложить сам текст, но и «перевести» иллюстрации к нему, адаптировав их для отечественного читателя.
Следы этой техники мы встречаем и в публикации в «Задушевном слове». На одном из рисунков Поттер изображены жестянки, стоящие на кухонной полке, с английскими надписями: “Sago”, “Tapioca” и др.; обе переводчицы передают их, по-разному адаптируя для читателя. В версии Соловьёвой «рис» остается «рисом», однако «саго» (растительный крахмал; слово, едва ли знакомое детям) превращается в «соль», а «изюм» (который в России обычно не хранят в таких банках) – в «вермишель». В версии «Задушевного слова» надпись «саго» сохранена (при этом в самом переводе этот продукт ошибочно именуется «саг а » – по недосмотру журнального наборщика или из-за ошибки Н.А. Рождественской), незнакомая детям «тапиока» (еще один род крахмала) превращается в «кофе», а «изюм» – в «смородину» (английское слово “currants” допускает оба перевода).
В версии Соловьёвой помимо надписей на жестянках корректируются и изображения героинь. В оригинале Люсинда и Джейн – это типичные куклы, которых можно было найти практически в любой викторианской детской. Первая из них – так называемая «голландская кукла» (Dutch doll), шарнирная деревянная игрушка с суставчатыми ручками и ножками; в конце XIX в. был популярен детский книжный сериал за авторством Флоренс Кейт Аптон (1873–1922), о приключениях двух таких кукол и их приятеля – плюшевого чернокожего человечка по имени Голливог [см.: Kuznets 1994, 105–107, 183]. Джейн – еще одна разновидность викторианской куклы: круглощекая, в модном платьице, как правило, умевшая открывать / закрывать глаза, а по нажатии произносить простые слова (главным образом – «мама» или свое имя). Если игрушка типа Джейн была знакома русскому читателю (она упоминается, например, в повести Е.Н. Чирикова «Чужестранцы» (1915)), то голландские куклы популярностью в России не пользовались. Поэтому Соловьёва корректирует образ Люсинды, «повязывая» (а по факту – подрисовывая) ей платок и подчеркивая это строками: «С ней жила еще Дуняша, / В сарафане и с платком » [Соловьёва 1916, 5].
Наконец, самой главной заменой, предпринятой переводчицей, можно назвать перерисовку картинки, на которой кукла полицейского (классическо- го британского констебля, долговязого и в шлеме-«колоколе») заменяется на классического городового. Соловьёва дает детальное описание персонажа, изображенного на картинке: «У него огромный нос, / А под носом, для красы, / Словно шабры две, усы, / На боку рево́ львер с шашкой, / И погоны, и фуражка...» [Соловьёва 1916, 54]. В сказке этот персонаж получает свою сюжетную арку: сначала стоит на часах и внушает уважение мышкам, которые низко кланяются ему, а в последней главе отправляется на заслуженный покой: «Вышел в чистую отставку / И открыл съестную лавку» [Соловьёва 1916, 70].
***
Как видим, две современницы-переводчицы, ориентируясь на разные техники, в итоге приходят к различным результатам, причем в парадоксальном ключе. Если Рождественская, в стремлении максимально точно следовать «букве» текста (хотя и отклоняясь от этой установки, как только соприкасается со сложными для перевода местами), теряет его дух, то Соловьёва, напротив, отступая от формы оригинала, заменяя прозу поэзией и привнося очень многое от себя, все же оказывается куда больше верна оригиналу – благодаря сохранению авторской звукописи, введению уникальных сравнений и метафор, ориентированности на живой язык, которые были столь сильно важны для Беатрис Поттер.
«Куклин дом» становится важной – и при этом заключительной – вехой на творческом пути Соловьёвой как переводчицы. Здесь намного больше творческих исканий, чем в «Приключениях Кроли». На сей раз писателница проявляет себя не только в роли «кудесницы слова», поэтессы, дизайнера, издателя – но и открывает новые техники, тем самым предвосхищая будущее и глядя вперед, в XXI в. В этом отношении она выступает как женщина-автор par excellence – как смелый первопроходец, опережающий время и пролагающий новые пути для грядущего поколения переводчиков.
***
Когда мы оглядываемся на весь творческий путь Поликсены Соловьёвой, становится очевидно его большое отличие от судьбы ее современницы – английской детской писательницы Беатрис Поттер. Они обе прекрасно рисовали, были высоко образованы и обладали литературными дарованиями. Но Поттер совершила настоящую революцию в книгоиздательском бизнесе, обрела всемирную известность и смогла достичь финансового успеха, тогда как Соловьёва осталась в истории русской литературы на вторых-третьих ролях, ее журнал и издательство постоянно испытывали денежные затруднения, несмотря на высокий литературный и художественный уровень своей продукции, а сама писательница всегда нуждалась. Скорее всего, издательство «Тропинка» закрылось бы и без кризиса, вызванного Первой мировой войной, так как ни сил, ни средств вести дела у Соловьёвой и Манасеиной уже не было.
Для русской писательницы, в отличие от Поттер, кролик Питер не стал главной темой литературной карьеры, он не выдвинул ее в первые ряды детских авторов или женщин-литераторов вообще, несмотря на качественный стихотворный перевод, вписывающийся в традицию русских поэтических сказок, заложенную «Коньком-Горбунком» П.П. Ершова. Переводчица не стала «русской мамой» кролика Питера, и эта адаптация не повлияла существенным образом на ее литературную стратегию и карьеру. Не обрела у русского чита- теля популярности и ее версия сказки о двух мышках. Можно сказать, что карьера Поттер сложилась намного удачнее и в плане славы, и в плане коммерческого успеха, но Соловьёва не пользуется ее рецептом (прежде всего – формат издания) даже для увеличения продаж своих книг. Она явно следует русской традиции, пытаясь повторить приемы П.П. Ершова при создании длинных стихотворных сказок, и не стремится скопировать бизнес-стратегию Поттер для адаптации ее прозаической сказочной вселенной о Кролике или истории о мышах, хотя могла бы издать их в своем издательстве также в виде карманной книги или комикса (рассказа в картинках).
Таким образом, при наличии сходных биографических фактов и данных мы наблюдаем разное движение писательской карьеры и следование собственным национальным традициям в создании произведений для детей: литературная сказка о животных – и стихотворная сказка, озорная история с биографическим подтекстом – и притча с христианским и остросоциальным смыслом. Видим мы и различный итог, который зависит, может быть, не только от таланта, но и от исторического контекста существования английского и русского общества в начале ХХ в. Даже время выхода книг Соловьёвой неудачно – эпоха Первой мировой войны, а Поттер «выстрелила» в благополучные первые годы нового столетия.
Тем не менее переводческая деятельность Соловьёвой представляет собой интересную попытку органично сочетать собственное оригинальное творчество и переложение сочинений иностранных авторов, что было свойственно и многим другим писателям и писательницам Серебряного века, пробовавшим себя в переводе.
Список литературы "Ну а кроля не таков": литературные сказки Б. Поттер в переводах П.С. Соловьёвой ("Приключения кроли", "Куклин дом"). Статья вторая
- Берков В., Янковский М. Комментарии // Ибсен Г. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1957. С. 827-853.
- Поттер Б. Сказка о двух нехороших мышках /Пер. с англ. Н.М. Демуровой // Иностранная литература. 2006. № 1. URL: https://magazines.gorky.media/inostran/2006/1/chetyre-skazki.html (дата обращения: 15.09.2024).
- Поттер Б. Сказка о двух скверных мышках /Пер. с англ. Н. Рождественской // Задушевное слово. 1911. № 36. С. 590-591; № 37. С. 604-606; № 38. С. 622-623; № 39. С. 638-639.
- Соловьёва П. (Allegro). Куклин дом /Рисунки Б. Поттер. СПб.: Изд-во "Тропинка" П. Соловьёвой и Н. Манасеиной, 1916. 74 с.
- Jones H.A. The Foundations of a National Drama: A Collection of Lectures, Essays and Speeches, Delivered in the Years 1896-1912. New York: Doran, 1913. 376 p.
- Kuznets L.R. When Toys Come Alive: Narratives of Animation, Metamorphosis, and Development. New Haven (CT), London: Yale University Press, 1994. 262 p.
- Lear L. Beatrix Potter: A Life in Nature. New York: St. Martin's Griffin, 2007. 584 p.
- Linder L. A History of the Writings of Beatrix Potter, Including Unpublished Work. London; New York: Frederick Warne, 1971. 446 p.
- Potter B. The Tale of Two Bad Mice. London: Frederick Warne & Co., 1904. 85 p.
- Taylor J. Beatrix Potter, 1866-1943: The Artist and Her World. London: Frederick Warne & Co., 1987. 224 p.