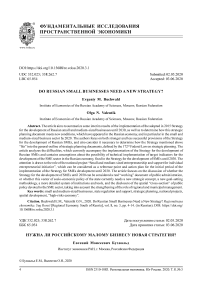Нужна ли российскому малому бизнесу новая стратегия?
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич, Валентик Ольга Николаевна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики
Статья в выпуске: 3 т.8, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья ставит своей задачей обобщить некоторые промежуточные результаты реализации принятой в 2015 г. Стратегии развития российского малого и среднего предпринимательства до 2030 г., а также определить, насколько этот документ стратегического планирования отвечает тем новым условиям, которые сложились в российской экономике, и в частности, в секторе малого и среднего предпринимательства к 2020 году. Авторы акцентируют внимание как на более сильных, так и на менее удачных положениях Стратегии МСП, а также полагают необходимым определить, насколько Стратегия МСП «вписалась» в общую канву документов стратегического планирования, определенных 172-м Федеральным законом о стратегическом планировании. Статья анализирует те сложности, которые в настоящее время сопровождают реализацию Стратегии МСП, содержит предположения относительно возможности практически реализовать те целевые индикаторы по развитию сектора МСП в российской экономике, которые были заложены в Стратегию МСП до 2030 года. Обращается внимание на роль национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который условно можно рассматривать как ориентир и план действий на начальный период реализации Стратегии МСП до 2030 года. Центральное место в статье отведено дискуссии относительно того, можно сегодня считать Стратегию МСП до 2030 г. реально «работающим» документом государственного управления или этот вектор социально-экономической политики государства в настоящее время нуждается в новой стратегической концепции, новой методологии целеполагания, более развернутой системе институтов и инструментов, раскрытии пространственного «среза» государственной политики в отношении МСП с учетом усиления роли регионального и муниципального звена управления.
Малое и среднее предпринимательство, государственное регулирование и поддержка, стратегическое планирование, национальные проекты, пространственное развитие,
Короткий адрес: https://sciup.org/149131997
IDR: 149131997 | УДК: 338.262.7 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.3.1
Текст научной статьи Нужна ли российскому малому бизнесу новая стратегия?
DOI:
Цитирование. Бухвальд Е. М., Валентик О. Н., 2020. Нужна ли российскому малому бизнесу новая стратегия? // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 3. С. 4–14. DOI:
Постановка проблемы
Период в шесть лет, прошедших после принятия 172-го Федерального закона о стратегическом планировании [Федеральный закон ... , 2014], делает возможным и необходимым определиться с тем, насколько позитивно оказалось воздействие стратегирования как новой модели государственного и муниципального управления на ход социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов. Разумеется, любая правовая, институциональная или организационная новация не может считаться исключительным фактором, определяющим хозяйственную и социальную ситуацию в стране, включая и сферу МСП [Данилов-Данильян, 2017]. Весьма значимыми оказываются и прочие источники влияния, в том числе и откровенно негативного характера. Опыт последнего времени дал в этом отношении самые убедительные свидетельства.
Тем не менее есть определенные методологические подходы, которые дают возможность оценить меру и характер влияния тех или иных новшеств в сфере макроэкономического управления, прежде всего в контексте основных направлений социально-экономической политики государства. Именно это и предопределило то, что продвижение страны, ее регионов и даже муниципального звена управления в использовании практики стратегического планирования стало объектом значительного числа экспертно-аналитических оценок, научных публикаций и пр. [Коробов, Коробова, 2016; Буров, Дикельман, Кравченко, 2017]. Нет ничего удивительного в том, что эти оценки содержат в себе как позитивные, так и негативные моменты. Это касается как существенного позитивного стратегического «приращения» в практике государственного и муниципального управления, так и многих упущенных возможностей, нереализованных целевых индикаторов по различным отраслевым и пространственным аспектам развития российской экономики.
Одним из направлений анализа результатов практики стратегического планирования выступает ход реализации «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия МСП) [Распоряжение Правительства РФ ... , 2016]. По нашему мнению, активный интерес исследователей к этому вектору социально-экономического стратегирования в стране определяется тремя моментами. Во-первых, после принятия в 2014 г. федерального закона о стратегическом планировании именно Стратегия МСП стала одним из первых документов, нацеленных на то, чтобы реализовать долговременное стратегирование как новую модель государственного и муниципального управления. Во-вторых, до «старта» Стратегии МСП уже принималось большое количество различных программ, «дорожных карт», проектов и иных подобных документов по вопросам развития и государственной поддержки МСП, большинство из которых так и не смогло достичь целевых индикаторов. Наконец, в-третьих, при всей проблематичности итогов статистических наблюдений сферы МСП, стало очевидно, что тренд развития этого сектора российской экономики в последние 5–6 лет повернулся не в лучшую сторону [Баринова и др., 2018; Симонова, 2016]. Это сделало необходимым использование новых подходов к решению проблем российского МСП.
При экспертном анализе подобной ситуации в основном высказывалось две точки зрения. Одна из них состояла в том, что Стратегия МСП, при всех ее достоинствах, не смогла выработать и практически изложить качественно новый курс государственной политики в отношении МСП, соответствующий актуальным приоритетам развития российской экономики и, главное, более высокому уровню развития самих малых форм хозяйствования в российской экономике. Другая точка зрения основывалась на том, что Стратегия МСП в целом правильно характеризовала основные тенденции, проблемы и перспективы российского МСП. Однако ее «подвело» то, что реальные макроэкономические тренды, как и показатели социального развития в России, в период после принятия Стратегии оказались заметно иными, чем те, к которым привязывались закрепленные в документе показатели развития МСП на перспективу [Школьник, 2018]. Это – фактическая стагнация экономического роста, падение реальных доходов населения и пр. В этих условиях Стратегия МСП в значительной мере утеряла значимость рабочего документа для системы государственного и муниципального управления, что еще больше подтвердилось на фоне «экономических шоков» начала 2020 года. Примечательно, что подобная судьба характерна для документов по стратегированию сферы МСП и в других странах со стагнирующей экономикой [Boldureanu, Paduraru, Boldureanu, 2016].
Как это бывает чаще всего, элементы правдоподобия есть у обеих названных выше позиций. Но главное сегодня не в том, чтобы искать ответ на вопрос, кто в этом отношении прав больше, а кто меньше. Ключевая проблема в том, что делать с формально еще действующей Стратегией МСП: пытаться осовременить ее, начать работу над принципиально новым документом или «оставить все, как есть», поскольку в действующем виде Стратегия никому не помогает, но и никому не мешает? Некоторые аргументы по данному вопросу авторы и попытались представить в данной статье.
Стратегия МСП: уйти «в отрыв» не удалось
Вскоре после принятия 172-го ФЗ Минэкономразвития РФ обозначило 4 документа стратегического планирования, которые должны были иметь ключевое значение для становления практики стратегического планирования в стране. Это – «базовая» Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности, Стратегия пространственного развития и Стратегия научно-технологического развития. Стратегия МСП, как и многие другие стратегические документы, принятые в развитие 172-го ФЗ, но которые прямо в нем не упомянуты (например, Стратегия экономической безопасности), не могут считаться нелегитимными, поскольку статьи 172-го ФЗ, описывающие круг документов такого планирования, являются, как говорят юристы, «открытыми».
Среди ученых и экспертов нет единого мнения, что обусловило обращение к идее подготовки стратегического документа по МСП. Во всяком случае, в официальном тексте Стратегии МСП нет отсылки к какому-либо нормативноправовому документу (постановление, распоряжение и пр.), который бы директивно обязывал разработать и принять такой документ. Сделана ссылка на 172-й ФЗ, хотя в этом законе Стратегия МСП, как отмечено выше, не упомянута. Указание относительно подготовки такого документа содержалось в перечне поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса, состоявшегося 7 апреля 2015 года 1 [Маркова, 2016].
Однако, по нашему мнению, главной посылкой к подготовке Стратегии МСП все же стала сама идеология стратегического планирования, призывавшая использовать эту новую институцию для решения проблемы, в отношении которой наметился явный застой. Действительно, с начала российских экономических реформ было апробировано немало инструментов государственной политики в отношении МСП (прежде всего, целый ряд целевых государственных программ), которые, при всех издержках, смогли сформировать сегмент малого бизнеса как интегральную и уже достаточно весомую часть российской предпринимательской среды [Торе-ев, Вороновская, 2002; Митрофанова, 2007]. Однако уже к концу первого десятилетия XXI в. прогресс в этом отношении свелся к минимуму, а кризис 2008–2009 гг. сразу же отбросил российский малый бизнес в его развитии на несколько лет назад и в еще большей мере показал иллюзорность надежд на его существенный прогресс в ближайшей перспективе [Иванова, Вишневский, 2017].
Примером может служить так называемая «дорожная карта» развития и поддержки МСП до 2012 года 2. В эту «дорожную карту» закладывался такой целевой показатель, как увеличение доли продукции МСП в ВВП страны с 21 % в 2008 г. до 29 % – в 2012 году. Однако на деле этот и другие основные индикаторы, запланированные «дорожной картой» на 2012 г., достигнуты не были, а затем «плавно перекочевали» в новую Стратегию МСП. В этой Стратегии отмечалось, что ее главной целью выступает рост доли МСП в ВВП страны в 2 раза – с 20 % на момент принятия Стратегии до 40 % к 2030 году. Другими словами, ежегодный прирост указанной доли предполагался на уровне не менее 1 процентного пункта. Одновременно количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения к 2030 г. по сравнению с 2014 г. предполагалось увеличить с 38,8 до 46.
Стратегия МСП оценивалась как достаточно ресурсоемкое мероприятие. Еще до ее официального принятия, Минэкономики РФ оценил издержки по реализации этого долгосрочного плана по поддержке МСП в 819,5 млрд рублей. Какие-либо последующие отчеты о фактических затратах на реализацию Стратегии МСП в целом не публиковались. Да и едва ли такие точные оценки возможны вообще, учитывая, что отдельные мероприятия, предусмотренные в Стратегии МСП, были или «разбросаны» по отдельным ведомствам и программам, или остались «замороженными». Однако, несмотря на все усилия, весь последующий год событий показал, что ход реализации Стратегии хорошо вписывается в формулу «хотели как лучше, а получилось как всегда». На деле показатель доли МСП в ВВП России в 2017 г. составил 22,0 %, а в 2018 г. – только 20,2 %, то есть на уровне или даже ниже показателя 2008 г. и весьма далеко от целевых индикаторов как «дорожной карты», так и Стратегии МСП.
Учитывая, что на данный момент Стратегия МСП остается, скорее, идеологическим, чем реально работающим управленческим документом, практическими значимыми инструментами государственной политики в отношении МСП на федеральном уровне в настоящий момент можно считать только государственные программы и национальные проекты, финансово-бюджетные и организационные механизмы которых к тому же трудно разделимы. Прежде всего меры поддержки МСП в настоящее время обозначены в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»3. Формально подпрограмма рассчитана на период 2013–2024 годов.
Целевой индикатор подпрограммы (после ее обновления) выражен весьма своеобразно. Количественными показателями реализации Программы являются: обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках национальной гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн руб. в 2019–2024 годах. О росте числа субъектов МСП, увеличении доли сектора МСП в ВВП страны и прочем ничего не говорится. Отсюда довольно ясное впечатление, что составители документа просто не различают цели программы и средства их достижения.
В последние два года дополнительный круг инструментов поддержки МСП был развернут в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»4. Проект не содержит прямых ссылок на Стратегию МСП и ее целевые установки. Но чисто гипотетически данный проект может рассматриваться как своеобразная интерпретация первого этапа реализации Стратегии МСП по ее некоторым направлениям (но в целом содержание Стратегии МСП значительно шире, чем тот круг проблем, на решение которых направлены 5 федеральных проектов – составляющих национального проекта). Проект предусматривает увеличение доли МСП в ВВП страны с 22,3 % на конец 2017 г. до 32,5 % – в 2024 году. Однако уже на сегодняшний день такое продвижение представляется весьма маловероятным, поскольку речь идет о приращении указанной доли даже не на 1, а уже почти на 2 п.п. в год.
Отсюда возникает три немаловажных вопроса. Во-первых, можно ли считать причиной нынешней негативной ситуации в сфере российского МСП некачественно подготовленную Стратегию. Во-вторых, можно ли надеяться на некоторое выправление ситуации, если этот документ будет подвергнут глубокой переработке. И, в-третьих, как следует оптимально скомбинировать Стратегию с практикой подготовки и реализации государственных программ и национальных проектов, так или иначе ориентированных на развитие и государственную поддержку МСП в российской экономике? [Бухвальд, 2016].
Мы полагаем, что на первые два вопроса нужно ответить положительно. Другими словами, при разработке МСП, действительно, были допущены серьезные просчеты, негативно повлиявшие на результативность государственной политики в отношении МСП, хотя, как показывает практика, наши стратегии всегда воспринимались, скорее, как некая идейная платформа, нежели реальная программа конкретных управленческих действий. Глубокая переработка Стратегии и принятие ее полностью обновленного варианта может оказать позитивное воздействие на практическую результативность рассматриваемого вектора социально-экономической политики государства. Но это возможно только в том случае, если речь пойдет не о корректировке документа в духе подгонки его целевых индикаторов под реально достижимые в итоге параметры, а о его кардинальной переработке – как с учетом социально-экономических реалий дня, так и на базе тех принципиальных требований, которые предъявляются к документам стратегического характера современной экономической наукой и практикой государственного управления [Кочиева, 2019; Ленчук, 2020]. По сути, это должна быть принципиально другая стратегия для российского МСП.
Новый этап стратегирования в сфере МСП – только на основе «базовой» Стратегии
Для того чтобы определить условия, при которых стратегический документ по развитию и государственной поддержке МСП мог бы в полной мере оправдать связанные с ним ожидания позитивных перемен в этой сфере российской экономики, следует, прежде всего, определить ключевые пробелы действующей Стратегии МСП. На наш взгляд, такие пробелы связаны с четырьмя основными позициями.
Во-перв ых , Стратегия МСП в известном смысле слова «пала жертвой» сложившегося у нас, особенно в первый период после принятия 172-го ФЗ о стратегическом планировании, довольно упрощенного подхода к пониманию сути и задач документов, имеющих статус «Стратегия» [Новиков, 2019]. В соответствии с современными представлениями об экономических стратегиях, эти документы как бы равновесно «стоят на трех слонах»: цели, ресурсы и инструменты. В этом смысле главный пробел Стратегии МСП состоит в том, что этот документ, повторяя особенности 172-го ФЗ, содержит явный перекос в сторону функции целеполагания. Стратегия МСП не дает полной картины тех институтов и инструментов социально-экономической политики государства, которые должны были бы эти цели реализовать. Это не означает, что в Стратегии МСП нет ничего кроме целеполагания. Стратегия содержит обширный анализ проблем российского МСП, есть указания на те направления, двигаясь по которым эти проблемы можно было бы решить. Однако в этом, наиболее значимом для Стратегии блоке, ей во многом не хватает конкретности.
Например, в Стратегии с целью повышения адресности государственных мер поддержки МСП последние предлагалось разбить на две группы: массовый сектор (преимущественно предприятия в сфере торговли и услуг) и высокотехнологичный сектор – экспортно-ориентированные предприятия. Конечно, такая типизация МСП представляется весьма спорной: массовое производство товаров и услуг не противоречит их инновационности, а инновационный характер производства совсем не обязательно должен быть связан именно с его экспортной ориентацией. Но главное, что в Стратегии нет указаний ни на конкретные механизмы реализации мер поддержки МСП, которые могли бы быть основаны на подобной типизации, ни на те позитивные эффекты, которые могли быть при такой модели государственной политики в отношении МСП. В Стратегии явно упущены возможности развития и поддержки МСП, связанные с использованием механизмов государственно-частного и муниципального частного партнерства [Фатхуллина, 2018].
Еще один пример. В Стратегии МСП справедливо обращается внимание на то, что важным условием устойчивого развития сектора МСП российской экономики выступает ограничение практики монополистического хозяйствования и поддержание конкурентной среды в экономике. Однако опять-таки документ не дает ни указаний на конкретные механизмы реализации этих важных предпосылок, ни гарантий того, что они могут быть достигнуты на практике. Между тем даже самый обыденный взгляд показывает, что нормальной конкурентной среды (не внутри, а вовне сферы МСП) российский малый бизнес как не видел, так и не видит. Примером может служить постепенное вытеснение за последние 5–7 лет малых форм хозяйствования из традиционных для них сфер деятельности, это – торговля, личные услуги и пр., вопреки установке Стратегии МСП на развитие «многоформатной торговой инфраструктуры». Такое вытеснение зримо идет в пользу крупных сетевых структур, явно действующих на основе монопольного лидерства и/или монопольного сговора о ценах.
О каких механизмах реализации позитивных инициатив в пользу МСП, представленных в Стратегии, может идти речь? Хорошо известно, что основным инструментарием реализации стратегий выступают государственные программы и проекты. Государственная политика в отношении сферы МСП здесь не является исключением. О возврате к крупномасштабным государственным программам развития и поддержки МСП, которые действовали в 1990-е гг., речь сейчас, конечно, уже не идет 5. Однако это не значит, что ключевые предложения, предусмотренные Стратегией МСП, должны «уходить в пустоту», а не адресоваться конкретным программно-проектным инструментам государственной политики.
В Стратегии основной акцент в этом отношении делается на созданный в 2015 г. государственный институт развития МСП – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация). Роль этого института в данном случае очень велика, но не всеобъемлюща. Куратором (ответственным исполнителем) подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» является Министерство экономического развития РФ. В Паспорте национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима- тельской инициативы» Корпорация вообще не упоминается, а руководство его федеральными проектами предполагается со стороны Минэкономразвития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Общероссийской общественной организации МСП «Опора России».
Как мы полагаем, полномасштабная функциональность Стратегии МСП может быть реализована только в том случае, если она будет содержать в себе исчерпывающую картину программных и проектных инструментов ее реализации, а также четкие указания на мероприятия внепрограммного характера (например, наиболее значимые правовые и институциональные новации, востребованные на период действия Стратегии). В Стратегии должна быть позиционирована роль программ, проектов, а также иных возможных инструментов в решении конкретных задач развития и поддержки МСП. В настоящее время названная выше подпрограмма 2 и национальный проект формально действуют как самостоятельные инструменты данного направления экономической политики государства. Однако фактически часть проекта уже введена в состав подпрограммы, что вообще затрудняет понимание необходимости параллельного использования двух номинально самостоятельных регулятивных инструментов.
По нашему мнению, разграничение программных и проектных инструментов государственной политики в отношении МСП возможно в двух плоскостях, что и должно быть отражено в Стратегии. В одном случае, о чем говорилось ранее, национальный проект и его составляющие могут конкретизировать собой определенные этапы реализации Стратегии. В другом случае, программы и проекты могут быть функционально «разведены»: решение глобальных, долговременных задач Стратегии должно быть закреплено за государственными программами, а решение тактических задач – за национальными проектами.
Потребность в формировании более четких инструментальных позиций касается и инструментального аспекта политики государства в отношении МСП, как меры налогово-бюджетной политики. Разумеется, Стратегия сама по себе не может изменить регулятивные положения Налогового и Бюджетного кодексов РФ. Однако те предложения, которые делаются в документе в связи с мерами налогово-бюджетной политики поддержки МСП, не должны излагаться в виде общих рассуждений, часто с повторением сентенций мно- голетней давности. Так, сейчас в Стратегии МСП указывается, что главными стратегическими ориентирами эффективной налоговой политики в отношении МСП должны стать: ориентация на реальные потребности субъектов МСП (?); сбалансированность (?) фискального и стимулирующего действия налогов; активное вовлечение бизнеса в процесс обсуждения налоговых инициатив. Что это, если не лозунги самого общего характера? Как мы полагаем, предложения подобного рода должны иметь форму вполне конкретных законодательных инициатив, возможно даже с эшелонированием их на все время действия данного документа в зависимости и последовательности в решении намеченных им задач.
Соответственно, ни Стратегия МСП, ни «дорожная карта» по ее реализации не оперируют теми объемами средств, которые необходимо мобилизовать и израсходовать для достижения намеченных Стратегией целевых параметров. По сути, в отсутствие двух названных выше ключевых компонентов (инструменты и ресурсы) Стратегия превращается просто в декларацию о намерениях.
Во-вторых , учитывая сроки ее принятия, Стратегия МСП оказалась «предметом в себе», лишенным четкого позиционирования в системе документов стратегического планирования и, соответственно, должного согласования с этими документами. В этой связи нельзя не повторить ряд важных выводов, которые уже высказывались в нашей экономической литературе. Они состоят в том, что 172-й ФЗ должен был определять не только круг основных документов стратегического планирования, но и логическую последовательность их принятия. А именно: сначала «базовая» стратегия социально-экономического развития страны, затем основные документы стратегического планирования, указанные в 172-м ФЗ, а затем уже все прочие стратегические документы, которые будут сочтены целесообразными для практики государственного управления, к которым относится Стратегия МСП.
Действительно, в ходе Стратегии МСП на ее проектной стадии российские ученые и эксперты многократно говорили о целесообразности перенести завершающий этап разработки и принятия этого документа на период после утверждения всех основополагающих документов стратегического планирования, и, прежде всего, основной Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. Это позволило бы не только «привязать» целеполагание в Стра- тегии МСП к ключевым показателям «базовой» Стратегии, но и конкретно обозначить роль малых форм хозяйствования в реализации общенациональных приоритетов как отраслевого, так и пространственного характера. Сейчас же сложилась своеобразная ситуация: после принятия Стратегии МСП в соответствующем направлении экономической политики государства мало что изменилось, а если какие изменения и произошли, то едва ли их можно рассматривать именно как реализацию тех или иных положений данной Стратегии.
Третий пробел, который подлежит устранению в процессе ее кардинальной переделки, состоит в том, что документу необходима реальная «федерализация». Можно предположить, что и в данном вопросе негативную роль по отношению к Стратегии МСП сыграли особенности 172-го ФЗ по стратегическому планированию. Закон формально оперирует моделью такого планирования в виде «управленческой вертикали» от федерального до муниципального уровня. Однако в действительности отражение каждого из уровней этой вертикали в законе неравнозначно: федеральный уровень расписан обстоятельно; региональный – более сжато, а муниципальный уровень обозначен лишь в самых общих чертах. Аналогичная ситуация сложилась со Стратегией МСП. Документ преимущественно оперирует целями и инструментами федеральной политики МСП; в общих чертах указывает на задачи регионального звена управления, а роль муниципального звена обозначена лишь контурно [Виленский, 2017].
Стратегия МСП, не корреспондируя Стратегии пространственного развития [Распоряжение Правительства РФ ... , 2019], практически не затрагивает пространственный аспект данного направления государственной политики, связанный с огромным своеобразием условий и проблем развития МСП в различных регионах страны и спецификой востребованных там мер государственной поддержки малых форм хозяйствования. Не случайно принятие федеральной Стратегии МСП так и не нашло адекватного логичного продолжения в региональном звене управления [Кремин, 2019].
Наконец, четвертый пробел Стратегии МСП, который выявился уже в самое последнее время, – отсутствие в документе круга вопросов по идентификации и управлению рисками реализации Стратегии. В документе, построенном на идеологии «лучезарного оптимизма», нет от- ветов на вопросы, как следует действовать органам власти в случае, если МСП России столкнется с трудностями чрезвычайного характера. Документ оперирует отдельными видами рисков для предпринимательства, а не системными рисками, возможными в ходе реализации самой Стратегии. В результате в документе нет четкого указания на необходимые в особо сложном случае компенсаторные механизмы, включая создание стабилизационных фондов государственной поддержки МСП как на федеральном, так и региональном уровне или фондов взаимной поддержки субъектов МСП и пр.
Заключение
Социально-экономическая ситуация 2020 г. и ее долговременные последствия, скорее всего, заставят нас несколько пересмотреть представления о сути и задачах стратегического планирования, актуализировать обеспечивающие его документы. В число таковых, несомненно, должна войти и Стратегия МСП. Однако, как мы полагаем, принимать сейчас по существу новую Стратегию МСП в отсутствие ключевой социально-экономической стратегии для страны нет смысла. Ситуация 2020 г. – это не повод для того, чтобы снова отложить идею «базовой» стратегии, а посылка к заметному ускорению работы в этом направлении. Восстановление логической последовательности и взаимной согласованности документов стратегического планирования позволит, в частности, устранить основные пробелы Стратегии МСП, а именно – сбалансировать ее целеустанавливающие, инструментальные и ресурсные компоненты, а также ее отраслевые и пространственные аспекты; реализовать в Стратегии «вертикаль» стратегического планирования на принципах экономического федерализма. Конечно, важно существенно усилить сценарный вариант Стратегии, включая и алгоритм действия на случай особых ситуаций в российском МСП, а также перенос акцента Стратегии с количественных приростов на меры по обеспечению жизнеспособности и устойчивого функционирования малых форм хозяйствования в экономике страны.
Список литературы Нужна ли российскому малому бизнесу новая стратегия?
- Баринова В., Земцов С., Коцюбинский В., Красносельских А., Царева Ю., 2018. Выполнение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России // Экономическое развитие России. Т. 25, № 11. С. 36–45.
- Буров А. Н., Дикельман Д. А., Кравченко Е. Н., 2017. Оценка роли государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в России // Экономика и предпринимательство. № 4-1 (81). С. 425–429.
- Бухвальд Е. М., 2016. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года: амбиции и реалии // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 1 (43). С. 66–80. DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.4.
- Виленский А. В., 2017. Федеральный и региональный аспект поиска новой политики в отношении малого и среднего предпринимательства России // Проблемы теории и практики управления. № 4. С. 96–102.
- Данилов-Данильян А., 2017. Некоторые вопросы институциональной поддержки развития малого и среднего предпринимательства // Проблемы теории и практики управления. № 4. С. 55–61.
- Иванова Т. Б., Вишневский В. С., 2017. Малый и средний бизнес: ограничения развития и инструменты их преодоления // Проблемы и перспективы экономического развития регионов. Грозный : Изд-во Чечен. гос. ун-та. С. 53–58.
- Коробов С. А., Коробова С. И., 2016. Основы экономического анализа проекта федеральной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 г. // Экономинфо. № 26. С. 14–16.
- Кочиева А. К., 2019. Особенности и проблемы стратегического планирования развития экономики России // Экономика: теория и практика. № 2 (54). С. 28–33.
- Кремин А. Е., 2019. Опыт стратегического планирования развития малого и среднего предпринимательства в регионах РФ // Экономика и бизнес: теория и практика. № 11-2 (57). С. 21–25. DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11342.
- Ленчук Е. Б., 2020. Стратегическое планирование в России: проблемы и пути их решения // Инновации. № 2 (256). С. 24–28. DOI: 10.26310/2071-3010.2020.256.2.003.
- Маркова Л. В., 2016. О развитии малого и среднего предпринимательства в России // Инновационная экономика и право. № 4 (5). С. 47–50.
- Митрофанова И. В., 2007. Федеральные целевые программы межрегионального класса как инструмент управления макрорегионом: реалии и перспективы модернизации // Региональная экономика: теория и практика. № 3. С. 2–14.
- Новиков В. А., 2019. Новый этап в развитии стратегического планирования в России // Вестник Ивановского госуниверситета. Серия: Экономика. № 4 (42). С. 30–35.
- Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», 2016. URL: http://government.ru/docs/23354/. Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», 2019. URL: https://www. http://government.ru/docs/35733/.
- Симонова Е. В., 2016. О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. № 4. С. 328–332.
- Тореев В. Б., Вороновская О. Е., 2002. Эффективность программ поддержки малого предпринимательства // Экономическая наука современной России. № 3. С. 73–87.
- Фатхуллина Л. З., 2018. Совершенствование взаимодействия власти и малого бизнеса // Управление устойчивым развитием. № 1 (14). С. 66–72.
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http://base.garant.ru/70684666/.
- Школьник Е. В., 2018. Стратегическое планирование развития малого и среднего предпринимательства // Вестник Российского университета кооперации. № 4 (34). С. 80–85.
- Boldureanu G., Paduraru T., Boldureanu D., 2016. Evolution and development strategies regarding SME sector in Romania and the Republic of Moldova // Economie si Sociologie: Revista teoretico-stiintifica. No. 1. P. 71–77.