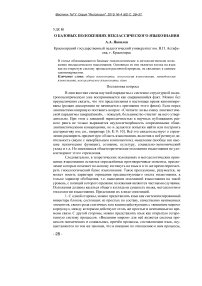О базовых положениях неклассического языкознания
Автор: Яковлев Андрей Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: К юбилею А.А. Залевской
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновываются базовые гносеологические и методологические положения неклассического языкознания. Основным из них является взгляд на язык как на открытую систему процессов различной природы, не сводимых к единым закономерностям.
Общее языкознание, гносеология языкознания, методология языкознания, неклассическое языкознание, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/146281536
IDR: 146281536 | УДК: 80
Текст научной статьи О базовых положениях неклассического языкознания
Постановка вопроса
В лингвистике смена научной парадигмы с системно-структурной на антропоцентрическую уже воспринимается как свершившийся факт. Можно без преувеличения сказать, что эти представления в настоящее время канонизированы (редкая диссертация не начинается с признания этого факта). Если перед лингвистами напрямую поставить вопрос: «Считаете ли вы смену лингвистической парадигмы завершённой», ˗ пожалуй, большинство ответит на него утвердительно. При этом с завидной периодичностью в научных публикациях разного ранга не только выражается неудовлетворённость современными общелингвистическими концепциями, но и делаются попытки найти или построить альтернативу им; см., например: [6; 8; 9; 10]. Всё это свидетельствует о стремлении расширить предметную область языкознания, включив в неё речевую деятельность (вкупе с невербальным компонентом), мышление (вообще все высшие психические функции), сознание, культуру, социально-экономический уклад и т.д. Но имеющиеся общетеоретические положения языкознания не удовлетворяют этого стремления.
Следовательно, в теоретических положениях и методологических принципах языкознания остаются определённые противоречивые моменты, преодоление которых поможет по-новому взглянуть на язык и в то же время пересмотреть гносеологический базис языкознания. Такое преодоление, разумеется, не может носить характера отрицания предшествующего опыта языкознания, а только характер обобщения, т.е. выведения положений языкознания на такой уровень, с позиций которого прежние положения являются частными случаями. Положения должны касаться общего взгляда на сущность языка, методологии и гносеологии языкознания. Представим их в виде оппозиций.
-
1. С одной стороны, можно представлять язык как систематизированный инвентарь блоков, состоящих из простых по составу, качественно неизменных элементов, своего рода статичных и не взаимодействующих с «внешним миром» корпускул, между которыми действуют столь же простые и неизменные во времени связи. С другой стороны, можно представлять язык как открытую гетерогенную систему процессов. «Внешним миром» для неё является система процессов психических и социальных, причём процессы, составляющие язык, осуществляются по тем же законам, что и внешние по отношению к ним процессы,
-
2. Можно полагать, что слово (языковой знак) существует в абстрактной системе, к нему применяются те же процедуры анализа, что и к слову в речи, общении и познании. Коль скоро язык является замкнутой системой, развивающейся по собственным закономерностям, то правила организации системы языковых знаков и есть те же самые правила, по которым знаки связываются друг с другом при их использовании человеком в общении и познании, а понимание одних правил автоматически даёт и понимание других. Законы языка абсолютны, т.е. язык может быть понят через свои же компоненты. Лингвист занимает привилегированную позицию, позволяющую ему, обращаясь только к фактам языковой системы, однозначно судить, например, о представлениях людей, скрывающихся в их сознаниях за теми или иными словами. Можно, наоборот, полагать, что слово существует не в абстракции, а только в сложной совокупности деятельностей человека. Тогда познание свойств языка (и сло́ва, в частности) зависит от того, в рамках какой деятельности человека он рассматривается. Законы языка относительны, т.е. язык может быть понят в зависимости от понимания чего-то другого и в сопоставлении с ним. Лингвист не занимает привилегированной позиции, и может лишь косвенно, по результатам речевой деятельности людей, судить об их представлениях, эмоциях, ценностях и т.д.
-
3. Языковой знак очищается от всех «примесей», которые не имеют отношения или не сводятся к информации, содержащейся в нём самом. Это даёт языкознанию существенные преимущества, главное из которых состоит в возможности применять к анализу всех знаков в любых условиях единые правила. В противоположность этому, если считать, что язык является частью психических и социальных процессов и что закономерности его использования человеком и закономерности его познания языковеда различны, то деятельность языковеда, превращающая факты языка в факты языкознания (научной теории), вносит в факты языка то, что им как таковым не свойственно. Нельзя сказать, что языковед злонамеренно приписывает языковым фактам то, что им не свойственно, но метод познания неизбежно входит в конечное знание о конкретном факте в качестве одного из свойств самого факта.
-
4. С одной стороны, можно считать, что знак в себе самом несёт информацию о предмете или явлении. Общение людей осуществляется за счёт того, что им известна информация, содержащаяся в знаках. С другой стороны, можно считать, что знак не передаёт информацию о внешнем мире, а выводит деятельность человека за естественные пределы, за границы отдельного сознания и его внутренних свойств ˗ в сферу взаимодействия с другими людьми и активного изменения мира. Онтология языкового знака состоит в вынесенном за рамки индивидуального сознания и закреплённом за материальной формой знака опыте человека по организации собственной деятельности и взаимодействия с другими людьми. Взаимопонимание между людьми с помощью знаков достижимо, т.к. опыт общения каждого из них формируется в схожих культурных условиях и схожих ситуациях. Но коль скоро фрагменты опыта людей не абсолютно идентичны, понимание не бывает стопроцентным. В одних и тех же знаках для людей закреплён похожий (но никогда не идентичный) опыт, и достаточность такого
а также активно взаимодействуют с этими последними. По этой причине характер внешних и внутренних связей языка находится в постоянной динамике.
сходства для данной ситуации общения людей определяется условиями этой ситуации, целями взаимодействия, образами желаемых ситуаций в их сознаниях и т.д. Для изучения знака важно как то, что его использование осуществляется в рамках определённой социальной группы с соответствующими ей нормами, так и то, что оно осуществляется личностью. Дело не только в том, что конкретный носитель языка является членном некоторой социальной группы, но и в его личностном переживании феноменов, важных для этой группы. В этом случае не требуется вводить понятие «информация», а свойства языкового знака выводятся из свойств психической и социально-культурной деятельности человека.
Первый подход каждой из приведённых четырёх пар соответствует классическому идеалу рациональности, а второй подход каждой из пар - неклассическому идеалу рациональности (см. [11]). Не всякая современная языковедческая концепция неклассична. И дело не в том, какие факты рассматриваются той или иной теорией, а в общелингвистической и общегносеологической базе, лежащей в основе конкретной теории. Например, концепции языковой картины мира - классика, как и точка зрения на концепт, согласно которой то, что изучается (моделируется) лингвистом в качестве концепта, - это и есть то, чем пользуется человек в общении и познании.
Базовые положения неклассического подхода к языку можно сформулировать таким образом: 1) взгляд на язык как на гетерогенную систему процессов; 2) принцип относительности языка (отсутствие в языковых явлениях единых абсолютных закономерностей); 3) принцип активности лингвиста (включённости наблюдателя); 4) вероятностный детерминизм и учёт одновременно социальных и личностных факторов, влияющих на язык.
Более подробному изложению и обоснованию этих положений и посвящена данная статья.
Многообразие языковых явлений
Общеизвестно, что развитие психолингвистики, когнитивной лингвистики, исследований дискурса и т.д. представляют собой расширение горизонта тех явлений, которые интересуют языкознание, а значит, хотя бы частичное их включение в подлежащий познанию предмет. Расширение предметной области влечёт за собой одно важное изменение в общей трактовке языка. Язык понимается как часть той или иной более широкой системы явлений, которые ранее считались совершенно чуждыми и языку, и, особенно, языкознанию. Язык, трактуемый ранее как нерасчленённая однородная данность, обусловленная качественно одинаковыми, простыми и однозначными причинно-следственным связями, предстаёт отныне как дифференцированное явление, частные формы существования которого не сводятся друг к другу и не подчиняются единым закономерностям.
Первым в отечественном языкознании, кто применил принцип наблюдаемости к языку, был, по всей видимости, Л.В. Щерба. Он с ясностью сформулировал такую концепцию языка, которая объединяет разные формы его существования, разграничив три аспекта языковых явлений: 1) языковой материал, 2) языковая система, 3) речевая деятельность [16]. Дальнейшее развитие его идей в трудах А.А. Залевской позволило констатировать наличие и четвёртого аспекта - языковой организации человека, ментального лексикона [7: 32-34].
Используемое Л.В. Щербой слово аспект применительно к языку не представляется нам удачным, поскольку оно означает ракурс рассмотрения некоторого предмета [12: 30]. Этот термин имеет скорее гносеологическое, нежели онтологическое, содержание, хотя Л.В. Щерба использует его, судя по всему, именно как онтологическое.
Как известно, «система называется гетерогенной , если она состоит из нескольких фаз, т.е. частей, имеющих разные свойства и отделённых друг от друга чёткими границами раздела» [3: 15]. Несколько изменяя терминологию Л.В. Щербы, можно сказать, что язык является многофазовой системой. По этой причине вместо термина «языковой аспект» мы будем употреблять термин «языковая фаза» или «фаза языка» («языковое состояние», «состояние языка»).
Подобно тому как всякое вещество может существовать в одном из четырёх агрегатных состояний или в одном из множества фазовых состояний, язык может существовать в одном из четырёх фазовых состояний, которые Л.В. Щерба и называл аспектами языковых явлений. Каждое из фазовых состояний языка, каждая фаза языка характеризуется относительной стабильностью / динамикой, пристрастностью / «отстранённостью», т.е. включённостью в контекст психических / социальных явлений, определённой степенью континуальности / дискретности своих единиц (компонентов) и т.д. Язык, таким образом, действительно является многофазовой системой, и каждая его фаза отличается от других по множеству параметров, о которых речь пойдёт ниже.
В многофазовой гетерогенной системе языковых явлений, по Л.В. Щербе, язык и речь не противопоставлены друг другу как что-то систематичное, объективное и статичное, с одной стороны, и что-то хаотичное, субъективное и динамичное, с другой. Язык есть континуум , и каждая его фаза влияет в некоторой степени на остальные, а все они объединены связями взаимного дополнения. При этом языковая организация и речевая деятельность являются многократно повторяющимися индивидуальными актами, испытывающими на себе в той или иной мере влияние личности осуществляющего их человека. Их многократное повторение в схожих условиях и очищение от случайных, несущественных характеристик делает их явлениями социума и культуры. Эти два обстоятельства позволяют охарактеризовать язык как личностно-социальный континуум .
Относительность языковых явлений и стохастический детерминизм
Включённость языка в комплекс разнородных систем позволяет охарактеризовать его как систему систем процессов, а также заключить, что язык не развивается по собственным законам, но проявляет в себе всеобщие фундаментальные законы живой природы. Таковых относительно языка можно сформулировать три: 1) внешние причины действуют только через внутренние условия [14:49-53; 15: 114], 2) низшие уровни системы подчиняются в своих функциях высшим при неоднородности и изменчивости связей между ними [1: 82-87], 3) живые системы находятся в состоянии устойчивого неравновесия со средой [2: 16-17]. Следует помнить при этом, что между живым и неживым нет однозначной границы, а живое является живым в силу тех же фундаментальных законов, в силу которых неживое остаётся неживым [5]. По этой причине невозможно провести чёткую границу между языком и другими системами коммуникации (включая системы коммуникации животных) и вообще взаимодействия людей в рамках социальных групп, а также между языком и «остальной» психикой человека.
Однако же каждая фаза языка специфическим образом проявляет эти всеобщие законы. Если рассматривать развитие разных языковых явлений, то оказывается, что каждая фаза языка развивается по своим закономерностям, а значит, следует констатировать относительность времени в них. Процессы, реально происходящие в одной фазе языка, могут проходить быстрее или медленнее процессов в другой его фазе. Процессы одной языковой фазы за некоторый промежуток времени могут пройти весь цикл «жизни» (возникновение, нарастание, угасание, исчезновение), а в других фазах они даже не будут наблюдаться. Можно констатировать, что в языковой системе время идёт медленнее, чем в языковом материале, и с некоторой точки зрения так оно и есть на самом деле. Это несоответствие, своего рода «временной парадокс», снимается принципом относительности времени (или относительности скорости процессов) в языке, который следует из дифференциации языка, из разделения его на несколько фаз. Можно говорить о принципе относительности в языке, который состоит в том, что ни одно языковое явление в своей константности, т.е. без изменения своих свойств, не представлено одновременно в нескольких фазах языка. Иными словами: всякое языковое явление при переходе из одной языковой фазы в другую неминуемо будет изменяться как качественно, так и количественно.
Возможность рассмотрения категорий языка через категории языкознания в виде комплексов явлений приводит к необходимости введения стохастического детерминизма. Он заставляет говорить о большей или меньшей вероятности обнаружить те или иные характеристики данного явления и результат выводить не из одного, а из многих наблюдений. В отличие от классического стохастический, или вероятностный, детерминизм постулирует, что из множества случайных взаимодействий получаются закономерные следствия, которые тем однозначнее проявляются, чем бо́льшая совокупность взаимодействий учитывается. Вероятностный подход подразумевает интерпретацию результатов с позиций тенденций (а не абсолютных и однозначных закономерностей), которые с большей или меньшей степенью проявляются в совокупности наблюдаемых языковых явлений, но никогда не относятся ко всем этим явлениям. Каждое малое изменение недоступно наблюдению и сверхневероятно, но общее изменение системы вследствие множества малых изменений вполне вероятно и доступно познанию.
Принцип включённости наблюдателя
Ещё одно важное положение неклассического подхода к языку состоит в учёте того факта, что способ познания языка влияет на его конечный результат. Свойства объекта даны субъекту не напрямую, а в акте познания, но способы и средства наблюдения и обобщения результатов не есть часть объекта познания. Однако они входят в итоговое знание обобщённо и косвенно, а именно в качестве особенностей знания о самом этом объекте. Характер способов познания кристаллизуется и обобщается теорией в характере знания об объекте, в специфике приписываемых объекту свойств (хотя и не всех). Способы познания проявляются как характеристики объекта, первые принимаются за часть последних.
Познание характеристик и закономерностей языка, как и всякое научное познание, неминуемо связано с обобщением свойств наблюдаемых явлений и фактов. А то, какие и как свойства языка обобщаются в теоретическую закономерность (правило, понятие и т.п.), зависит от метода познания. Кроме того, каждая языковая фаза (за исключением, пожалуй, только языковой системы) может рассматриваться с разных позиций, что позволяет выявлять в ней одни свойства и не позволяет выявлять другие. Например, языковой материал может рассматриваться как с позиций теории текста, так и с позиций теории дискурса. Одна точка зрения выявит такие свойства, которые при другой точке зрения неминуемо будут ускользать от исследователя, хотя языковые факты как таковые обладают всем комплексом присущих им свойств. Поэтому разные точки зрения не противопоставлены, а дополняют друг друга в познании одних и тех же явлений. Следовательно, разные способы познания одного и того же языкового явления могут дать разные (иногда противоречивые) результаты, а способ познания одного явления не всегда подходит для познания другого.
Одновременный учёт психических и социальных факторов
Выход за рамки традиционной предметной области, вовлечение в неё новых явлений (от мозговых структур до культурных стереотипов) толкает языковедов к переосмыслению способов познания объекта и к связыванию его свойств со свойствами неязыковых явлений. Возникает необходимость при объяснении характеристик языка учитывать одновременно внутренние (психические) и внешние (социальные) факторы, действующие на языковые процессы. С одной стороны, известно, что «...существуют не какие-то витающие в воздухе языки, а только люди, одарённые языковым мышлением...» [4:181], с другой стороны, в своём историческом развитии языки изменяются как целостности, охватывающие весь данный коллектив людей. Будучи достоянием человека, язык связан с явлениями психики, но в то же время он связан с деятельностью человека, которая чаще всего подразумевает взаимодействие с другими людьми и осуществляется под контролем общества через принятые нормы. Поэтому язык не может изучаться как достояние некоего «абстрактного человека», необходимо учитывать и социально-культурные особенности группы носителей языка, и их эмоционально-личностное отношение к некоторым отражаемым в языке явлениям (ср. в этой связи суждение Е.Д. Поливанова: «.. .язык есть явление физическое, психическое и социальное; точнее, в составе языковой деятельности имеются факты физического, психического и социального порядка…» [13: 182]). О языке следует рассуждать как о континууме явлений, которые в разных условиях и при разных методах их наблюдения удобнее описывать как физиологические, психологические или социологические. Язык оказывается таким парадоксальным феноменом, который, являясь одновременно физиологическим, психическим и социальным, не сводится ни к первому, ни ко второму, ни к третьему. Несводимость свойств языка к свойствам чисто физиологических, чисто психологических или чисто социологических явлений не позволяет растворить языкознание в этих науках.
Языковые явления как таковые всегда обладают единством множества свойств. В результате личностные явления и процессы, отражённые в слове, включаются в общение как социальное явление, а социальные явления и процессы, тоже отражённые в слове, включаются в познание и переживание как личностное явление. В этом смысле всякое слово для человека есть одновременно и групповое (инструмент общения, взаимодействия), и индивидуальноличностное (инструмент организации собственной психики) явление. Язык есть для человека не нечто постороннее, потому что социально обусловленное; напротив, это его язык как раз потому, что это язык именно того общества (группы, коллектива), внутри которого человек живёт и действует и частью которого он является. Можно представить это в виде двух пересекающихся осей (индивидуальной и групповой), но не бесконечных, а имеющих пределы. Эти пределы — крайние случаи значений некоторых слов, большинство же слов «находятся» где-то между этими крайностями, но могут «перемещаться» с изменением значений. Слово как социальное явление в пределе есть общекультурное, а в другом пределе - «диалоговое», «парное», понятное только для двоих. Слово как личностное явление в пределе есть интимное, ни с кем не разделяемое, а в другом пределе - несущее общечеловеческие ценности.
Как общество не состоит из Робинзонов, так общенациональный язык не состоит из простой суммы индивидуальных языков, - эти последние нужно объяснить из языковых явлений более высокого порядка. Но социальные явления не отражаются напрямую и без искажений в индивидуальном языке, в это отражение всегда вмешивается личность человека, обусловливающая небезразличное отношение к миру. Имеет место диалектическое единство социальных и личностных факторов, действующих и проявляющихся по-разному в разных фазах языка. Язык изучается не односторонне (только от внешнего к внутреннему или только от внутреннего к внешнему), а как взаимодействие внешнего и внутреннего.
В таком случае в понятиях и положениях языкознания обобщённо отражается не просто «социальное плюс индивидуальное», а новый тип реально существующих связей, которые состоят в том, что социальным явлениям языка придаётся личностное переживание, но не случайное, а закономерное - регулярно проявляющиеся в языковом материале или в результатах экспериментов. Понятия и положения теории (языковой системы) фиксируют определённые характеристики языковых организаций группы людей, или их речевой деятельности, или части языкового материала в их регулярных связях одновременно с психическими и социальными явлениями.
Выводы
Имеются достаточные онтологические и гносеологические основания, чтобы констатировать существование классического и неклассического языкознания, или классического и неклассического подходов к языку. К первому из них относятся такие концепции, в которых язык — это система дискретных и константных единиц, существующая по собственным внутренним законам, в которых человеческий фактор не учитывается, а детерминизм (и вообще идеал рациональности) классический. К неклассическому языкознанию можно отнести концепции, в которых язык - это открытая система процессов, связанная с процессами психическими и социальными, в которых, концепциях, человеческий фактор с необходимостью входит в положения и понятия теории, а обобщаемые закономерности изучаемых явлений основаны на стохастическом детерминизме.
Возникновение неклассического языкознания состояло в изменении теоретических представлений о языке и действующих в нём закономерностях: от структурализма и дескриптивизма, через социолингвистику, генеративизм и функционализм к психолингвистике, нейролингвистике, когнитивной, дискурсивной лингвистике и т.д. Его возникновение было не революционным, а эволюционным: постепенное накопление знаний о языковых фазах и о смежных явлениях дало постепенное же изменение представлений о языке в целом и способов его познания. Изменения в понимании языковой онтологии сопровождались изменением в понимании методологии, соответствующей предметной области каждого из этих направлений, при стремлении разобраться в нерешённых проблемах предшествующего направления.
Наличие эмоциональной и индивидуально-личностной составляющей в классическом языкознании является случайным фактором, не играющим большой роли в структуре и «жизни» языка и не входящим в предметную область языкознания. Либо, наоборот, незначимой оказывается социальная составляющая, и тогда положения языкознания распространяются не дифференцированно на весь языковой коллектив, как если бы языковые явления не зависели от характера взаимодействия людей внутри социальных групп и между ними. В основе неклассического языкознания лежит взаимодействие факторов социального и личностного (от эмоций до жизненных ценностей) характера не в качестве случайных флуктуаций, которыми можно пренебречь, а в качестве объяснительного принципа.
Гносеологическая основа классического языкознания сводится к тому, что, с одной стороны, научная теория не является продуктом объекта изучения, с другой стороны, объект независим от теории. Объект в принципе не превосходит теорию по своему совершенству и внутреннему многообразию (сложности). Взаимодействие субъекта и объекта познания рассматривается односторонне -как воздействие субъекта на объект, причём первый не испытывает «ответного воздействия» со стороны второго, а способ воздействия субъекта на объект никак не влияет на полученные результаты познания. Согласно этому подходу, объект познания (от фонемы до языка в целом) обладает двумя существенными характеристиками, сказывающимися на процессе познания и на его выводах. Во-первых, некоторые стороны объекта могут быть либо познаны, либо не познаны; различия здесь сугубо количественные: невозможна ситуация, когда субъект может сказать лишь о возможности, лишь о тенденции объекта проявлять некоторые свойства в определённых условиях, но не может сказать, проявляет ли он их в действительности. Субъект всегда «уверен» в наличии или отсутствии свойств объекта. Свойства объекта абсолютны и однозначны (хотя и различны по степени): они либо проявляются в данных условиях, либо не проявляются, третьего не дано. Во-вторых, объект потенциально поворачивается к субъекту познания всегда как бы всеми своими сторонами, и невозможна ситуация, в которой одни свойства объекта наблюдаются, а другие именно поэтому не наблюдаются, но в другой ситуации познания вторые свойства наблюдаются и могут быть изучены, а первые нет. Неклассическое языкознание решает все эти вопросы в противоположном ключе.
Ни язык, ни языковед не злонамеренны: языковед не пытается внести в знания о языке то, что ему как таковому не свойственно, язык не пытается скрыть от познания какие-то свои свойства. Однако это не значит, что способ наблюдения языка никак не отражается на том, какие свойства язык «показывает» языковеду. Подобная иллюзия возникает вследствие того, что научный метод, с одной стороны, откладывается в результате познания в качестве приписываемых самому предмету характеристик, с другой стороны, не позволяет охватить абсолютно все свойства предмета в их полной и конечной причинности. Сознание человека (и язык как одна из форм его существования) не имеет цели скрывать свои особенности от познающего его субъекта, но это не означает, что научные абстракции, фиксирующие эти особенности, совершенно не содержат в себе некоторых продуктов сознания, в том числе сознания субъекта познания.
Между классическим и неклассическим языкознанием существует множество «переходных» случаев, обусловленных спецификой решаемых задач. Например, установление произносительной нормы для тех или иных слов может игнорировать влияние индивидуальных и социальных факторов, не подразумевать дифференциацию языковых явлений, но при этом быть основанным на стохастическом детерминизме. Когнитивные исследования языка с необходимостью подразумевают принцип включённости наблюдателя и влияние способов познания на его конечный результат. Учёт человеческого фактора вряд ли станет актуальным и возможным в различного рода исследованиях по машинному обучению и машинному переводу, хотя насущность и нетривиальность решаемых ими задач не подлежит сомнению.
Подчеркнём, что неклассический подход к языку не отменяет классического. Например, сравнительно-историческое языкознание остаётся всецело в рамках классического подхода к языку, не теряя своей продуктивности и актуальности. Всегда останутся явления, для познания которых нет необходимости дифференцировать язык, рассматривать его как систему процессов и вводить в теорию стохастический детерминизм. Появление психолингвистики, когнитивного и дискурсивного направлений и т.д. не отменило системно-структурного подхода и не поставило крест на его достижениях, но и не стало изучать какой-то качественно иной объект (другое дело, что в этом объекте они выделяют другие стороны и компоненты).
Расширенная предметная область языкознания (язык + психика, культура и т.д.) не позволяет неклассическому подходу к языку оставаться в привычных онтологических и гносеологических рамках и при этом адекватно обобщать наблюдаемые закономерности в положениях и понятиях теории. Тем не менее, познание явлений, входящих в предметную область классического языкознания, не перестаёт быть актуальным. Поскольку принцип соответствия в науке гласит: основное содержание подтверждённых опытом теорий сохраняется в ходе развития науки, хотя область их значения и применимости сужается, делая их частными случаями более общих теорий.
Университетская книга, 2014. 368 с.
Krasnoyarsk state pedagogical university, Krasnoyarsk
The paper discusses and justifies the basic epistemological and methodological statements of non-classical linguistics. The main statement is the conception of language as an open system of processes of different nature, not reducible to the same laws. The language is characterized as an open self-organizing heterogeneous system of systems of processes as well as a personal-social continuum of various linguistic phenomena. Keywords : general linguistics, epistemology of linguistics, methodology of linguistics, non-classic linguistics, language.
Список литературы О базовых положениях неклассического языкознания
- Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978. 400 с.
- Бауэр Э.С. Теоретическая биология. М. - Л.: Изд. ВИЭМ, 1935. 151 с.
- Блюменфельд Л.А. Решаемые и нерешаемые проблемы биологической физики. М.: Едиториал УРСС, 2002. 160 с.
- Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во Академии наук СССР. 1963. 341 с.
- Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 520 с.
- Глебкин В.В. Смена парадигм в лингвистической семантике: от изоляционизма к социокультурным моделям. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. 368 с.
- Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с.
- Залевская А.А., Тогоева С.И. Некоторые вопросы общетеоретического потенциала современных исследований языка // Вестник Тверск. гос. ун-та. Сер. "Филология". 2018. № 4. С. 56-66.
- Князева Е.Г. Когнитивная наука и основы лингвистического знания // Вестник Тверск. гос. ун-та. Сер. "Филология". 2018. № 2. С. 34-38.
- Кошелев А.Д. Очерки эволюционно-синтетической теории языка. М.: Издательский Дом ЯСК, 2017. 528 с.
- Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. 288 с.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Рос. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ООО "А ТЕМП", 2006. 944 с.
- Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Наука, 1968. 376 с.
- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. СПб.: Питер, 2012. 288 с.
- Сеченов И.М. Элементы мысли: впечатления и действительность / Под. ред. К.Х. Кекчеева. Изд. 2-е. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. 224 с.
- Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. 432 с.