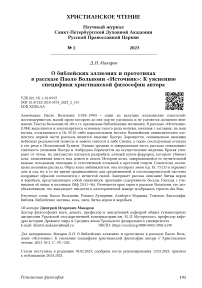О библейских аллюзиях и прототипах в рассказе Паоло Вольпони "Источник": к уяснению специфики христианской философии автора
Автор: Макаров Дмитрий Игоревич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История церкви
Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.
Бесплатный доступ
Паоло Вольпони (1924-1994) - один из ведущих итальянских писателейпостмодернистов, малой прозе которого до сих пор не уделялось и не уделяется должного внимания. Тексты Вольпони 60-80-х гг. пронизаны библейскими мотивами. В рассказе «Источник» (1984) выделяются и анализируются основные такого рода мотивы, начиная с заглавия, на наш взгляд, отсылающего к Пс 35:10 либо параллельным местам. Важнейшим символическим элементом первой части рассказа является видение Пьетро Лоренцетти, посвященное явлению небесных реальностей (кометы и нового святого) в небе Сиены, а также последующая отсылка в его речи к Неопалимой Купине. Однако средняя и завершающая часть рассказа показывают тщетность упования Пьетро и Амброджо Лоренцетти на осуществление видения. Братья умирают от чумы, их имущество пытается разграбить алчный купец-феррарец, которого убивает коза, захватившая власть над домом и садом. Истории козы, завершающейся ее мучительной казнью голодными сиенцами (с естественной отсылкой к крестной смерти Спасителя), посвящена половина рассказа. Образ козы амбивалентен: она попирает змею (ср. Пс 73:13) и охраняет дом и сад, но в то же время традиционным для средневековой и постмодернистской системы координат образом соотносится с нечистой силой. Завершает рассказ описание битвы ворон и воробьев, представляющее собой сниженную проекцию содержимого беседы Господа с учениками об овцах и козлищах (Мф 25:31-46). Отмечается крах героя в рассказе Вольпони, его дезобъективация, что вынуждает писателя в аллегорической манере изображать страсти das Man.
Паоло вольпони, романо луперини, альберто моравиа, томмазо ландольфи, библия, библейские мотивы, коза, змея, битва ворон и воробьев
Короткий адрес: https://sciup.org/140301615
IDR: 140301615 | УДК: 821.131.1-32.09:27 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_2_191
Текст научной статьи О библейских аллюзиях и прототипах в рассказе Паоло Вольпони "Источник": к уяснению специфики христианской философии автора
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Паоло Вольпони (1924, Урбино — 1994, Анкона) — один из наиболее ярких итальянских писателей-постмодернистов; о его романе «Столичные мухи» (1989) выдающийся литературный критик Романо Луперини (род. 1940) писал, что это, пожалуй, «наиболее заметный роман восьмидесятых и заодно один из трех-четырех лучших романов за всю вторую половину нашего (ХХ. — Д. М. ) столетия» [Luperini, 2001, 2444; Luperini, 1990, 302]. А ведь в это время жили и писали такие мэтры, как Дино Буццати (1906–1972), Томмазо Ландольфи (1908–1979), Итало Кальвино (1923–1985) и Умберто Эко (1932–2016)! При этом о малой прозе Вольпони по-прежнему практически нет серьезных работ, в которых раскрывались бы изгибы и траектории (С. Д. Кржижановский) стилевой и мировоззренческой эволюции автора (см.: [Caesar, 2008, 595–596; Макаров, 2019, 137 и сл.]). Не ставя перед собой сложную задачу проследить динамику развития малой прозы Вольпони в целом, ограничимся анализом одного из наиболее интересных рассказов, относящихся к зрелому периоду творчества писателя, — к «Источнику» (1984) [Volponi, 2017, 49–62].
Если Джованни Рабони и — вслед за ним — Эммануэле Дзинато, ведущий итальянский специалист по творчеству Вольпони, подчеркивают, что «секретам великой прозы более естественно раскрываться в незначительном по объему тексте»1, то уже упоминавшийся Р. Луперини прямо говорит, что сила итальянского автора состоит в его вненаходимости по отношению к идеологии постмодернизма [Luperini, 2001, 244]. Действительно, бросается в глаза, что сюжет рассказа, связанный с пришествием в Сиену «черной смерти» (великой эпидемии чумы в 1348 г.), со смертью братьев Амброджо и Пьетро Лоренцетти и битвой ворон с воробьями (за которой внимательнейшим образом наблюдает коза, еще один центральный персонаж повествования), сознательно вторичен по отношению, как минимум, к «Чуме» Альбера Камю (1947) и «Птицам» Дафны Дюморье (1952) — произведениям, очевидным (как в случае Камю) или довольно непосредственным (Дюморье) образом связанным с военной тематикой. Мы уже не говорим об отсылках к текстам средневековых хроник (работу по выявлению в тексте Вольпони такого рода отсылок еще предстоит осуществить).
Гораздо более очевидной, впрочем, является ориентация автора на идеи и образы Священного Писания Ветхого и Нового Завета2. Само название рассказа связано, на наш взгляд, не столько с открывающим его образом ручейка, к которому горожане ходили за водой (р. 49), сколько с Пс 35:10а («Ибо у Тебя источник жизни…»). Далее, та же коза (la capra3) — один из главных героев рассказа — выступает субститутом жертвенного Агнца (Ис 53:6–7; 1 Пет 1:19–20; Откр 5:6–7), на что указывает и одно из ее наименований в тексте — l’ariete (агнец, овен)4. Правда, эта параллель редуцируется благодаря тому обстоятельству, что в указанных местах итальянская Библия предпочитает слово Agnello (Ис 53:7: come agnello (как овца); come pecora (как агнец); 1 Пет 1:19: agnello; Откр 5:6: un Agnello; Откр 5:7: l’Agnello5). Впрочем, слово pecora (агнец) зафиксировано в четкой связке с capra (коза) в Лев 1:10; 5:6–7; 7:23 (во всех четырех случаях переводится как «овца»6), а также во Втор 14:4 (где la pecora аналогично переводится как «овца»)7; ср. также Ин 2:14–15 (изгнание Христом торговцев овцами из Храма8).
Надо полагать, писатель специально подобрал такой синоним к слову «агнец», как l’ariete (слово с опосредованными библейскими коннотациями), дабы не быть чересчур прямолинейным. Разумеется, такая референция усугубляет амбивалентность образа козы, поскольку (не говоря уже о средневековой традиции и полотнах Гойи) коза определяется как дьявольское животное и в постмодернизме9.
Что же делает коза в рассказе Вольпони? Несомненным образом играя в «Источнике» роль субститута сакрального Агнца (второй уровень смысла) или, по крайней мере, ветхозаветной «жертвы всесожжения (εἰς ὁλοκαύτωμα)» (Лев 1:10)10, она заканчивает свои дни, образно говоря, на плахе, претерпевая по прибытии в Сиену смерть от рук уцелевших от чумы и потому осмелевших голодных горожан (финал рассказа, р. 61–62). Стих Лев 1:10, кстати, сокращенный в Синодальном переводе (где выпущен конец фразы: «…и возложит руку свою на главу его11 (καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ)»), является, на наш взгляд, одним из ключевых для понимания рассказа, поскольку — осознанно для Вольпони или нет — корреспондирует с описанием растерзания козы убийцами ( возложение рук которых имело для козы зловещий — фатальный — смысл). Приведу лишь небольшой фрагмент: «…третий вонзил ей в затылок свой гвоздь. Четвертый (из нападавших. — Д. М. ) отрубил ей косой12 шею чуть ниже ушей, а пятый, замахнувшись топором, — чуть выше, но на два пальца ниже раны, нанесенной гвоздем13» (р. 61). Разумеется, это также была жертва, но не Христу, а Велиару, вернее — как и в случае феррарского купца, первым решившего разграбить мастерскую ушедших в мир иной братьев Лоренцетти (р. 54), — собственной алчности. Эта заключительная сцена и подается автором почти как шабаш.
Естественно, убийство козы послужило провозвестником последующих бедствий. Автор заканчивает произведение не без сарказма: «Это было первым в цепи происшествий, положивших начало всем тем грабежам, достатку и разгулу, что пришли на смену чуме» (р. 62). Так не явилась ли чума периодом катарсиса и очищения?
Но нет — подобно умершим от жестокой болезни братьям Лоренцетти, подобно убитому козой феррарскому купцу-грабителю, первому из тех, что пытался разграбить мастерскую покойных художников (р. 54–56), герои, рассказчик и сам пейзаж с интерьером в рассказе Вольпони понимают, что (говоря словами поэта) «и от судеб защиты нет» («Цыганы», 1824). Феррарский купец, возжелавший было ограбить мастерскую до основания14 и будучи уже изнурен затянувшейся борьбой с козой,
«решил… спастись (scampare) из этого места — из этой обители ужаса — убежав прочь так быстро, как только было возможно» (р. 55), но и тут — на краю смерти — его мотивация не меняется. Он остается алчен: «Быть может, вырвавшись отсюда, на большой дороге он и найдет кого-нибудь, кто сможет помочь ему вернуться и забрать с собой хоть что-нибудь из этих сокровищ, если не все их целиком» (р. 55–56).
Прежде чем начать свою многодневную битву с козой, завершившуюся фиаско и переходом в страну мертвых, феррарец провел перед рядами картин в мастерской Лоренцетти «три ночи и два дня» (р. 55), т. е. промежуток времени, аналогичный тому, что у католиков называется Triduum paschale15, Пасхальным тридневием Спасителя (если считать от ночи на Страстную Пятницу до ночи с Великой Субботы на Пасху). Однако купец выступает не подражателем Христа, а, напротив, Его антииконой , идолищем собственных страстей16, которому было попущено Богом, возжелав превратить козу во «вьючное животное» (р. 55), от козы и погибнуть (р. 55–56).
Дурной помысл не оставляет феррарца (p. 56). Грешный мир остается — и останется — грешным, даже невзирая на то, что деяние козы по не осознанному ею «спасению» мастерской может восприниматься (и, по-видимому, именно так и прочитывалось автором) как отражение деяний Самого Христа Спасителя по изгнанию торгующих из Храма (Ин 2:12–17). Торговцы продавали «волов, овец и голубей (colombe)» (Ин 2:14), из которых последние — голуби — могут рассматриваться как прототип для воробьев (i passeri), сражающихся с темными тучами «черных ворон (le monacchie nere17)» (p. 58–60; см. р. 58). В свою очередь, сама эта битва, колоритно описанная в последней части рассказа, очевиднейшим образом восходит — в конечном счете — к эсхатологической беседе Спасителя о разделении овец (читай: воробьев) и козлищ (ворон) (Мф 25:31–46).
В дальнейшем козе предстояло целый день «пребывать в растерянности над торчавшими из земли шипами (gli spuntoni) — очень жесткими и перемежавшимися с камнями; среди них уже нельзя было различить те, что принадлежали овощам, от частей гладиолусов» (р. 57). Это описание неизбежно вызывает в памяти «терние и волчцы (spine e cardi)» (Быт 3:18), которые стала изводить из себя земля после грехопадения. Грехопадением в рассказе было как содеянное купцом и его немногочисленными сообщниками, так и его убийство козой. Лексика Вольпони не совпадает со Священным Писанием, однако общая направленность его мысли не оставляет сомнения18.
В целом подобного рода традиционность не может не рассматриваться как указание на одну из узловых особенностей мировоззрения автора — его укорененность в библейской и католической традиции. И если мы рассматриваем постмодернизм как «крайнюю форму современного экспериментализма» [Эко, 2016, 148], то и тогда должны признать, что сознательная игра со всеми традициями — от привычных до необыкновенных — входит в набор его излюбленнейших приемов. Расшифровывать все это наслоившееся в тексте многовековое богатство смыслов и идей предстоит заинтересованному читателю. Ведь именно читатель, по тонкому наблюдению Умберто Эко, — «настоящий герой Вавилонской библиотеки» [Эко, 2016, 149; Павич, 2001, 96, 174].
Обратимся к более подробной и систематической экспликации библеизмов (или, по крайней мере, сходств с библейскими архетипами) в тексте «Источника». После убийства феррарского купца коза расправилась со змеей, желавшей доползти до трупа из нижней части опоясывавшей здание галереи:
Когда змея (una vipera) попыталась приблизиться к трупу купца, лежавшему в глубине галереи, коза растоптала ее и растерла в жидкую кашицу, смешавшуюся с полом, так что от противницы не осталось и следа (р. 57).
Коза — животное, не столь уж непохожее на оленя, который (согласно раннехристианским преданиям, отразившимся в Александрийском «Физиологе») попирает змей, но главное, что в данном событии нарратива ( res gesta narrata ) можно усмотреть сходство с Пс 73:13б: «…Ты сокрушил головы змиев в воде». В предыдущем эпизоде утоления козой жажды речь шла как раз о совладании с водной стихией (р. 56), так что и в нем допустимо увидеть сниженное в духе постмодернистской иронии переосмысление Пс 73:13а: «Ты расторг силою Твоею море…»
Но и это не все. Образ змея / змеи актуален в постмодернистской культуре. В «Хазарском словаре» Милорада Павича каган говорит: «я не смогу больше закрывать глаза перед истиной, спасаться зажмуриваясь, нет больше ни сна, ни яви, ни пробуждения, ни погружения в сон. Все это единый и вечный день и мир, который обвился вокруг меня, как змея (курсив наш. — Д. М. )» [Павич, 2001, 96, 244]. Вспомним также использованные в романах У. Эко (в частности, в «Маятнике Фуко» (1988)) предания об Уроборос.
Поскольку о прямой отсылке к Павичу в данном рассказе речи быть не может, следует расценивать только что приведенный отрывок как указание на общую распространенность в синкретизме постмодернистского словесного искусства подобного рода образов и представлений, недвусмысленное отношение к которым — с угадываемо католических позиций — выразил и Вольпони.
Освобождение от человека и змеи значимо в том плане, что позволяет итальянскому писателю более наглядным образом выразить ту оппозицию между стабильностью вещей и непостоянством людей , которую он только что подчеркивал при описании интерьера виллы покойных Лоренцетти:
Cтол продолжал стоять на прямых ногах, уравновешивая собой агонию человека.
Но чуть только смерть коснулась трупа, стол с сильным грохотом упал (р. 56).
Смерть перевертывает привычный для человека порядок вещей, открывая путь к доминированию животных в том мире, что некогда принадлежал ему:
Тогда козел выбежал из дома прочь и умчался вглубь сада. Еще больше опьянев и обезумев (allucinato) как от самой победы, так и от того разнообразия цветов и трав, что пережевывали его челюсти, он утвердил свое владычество всюду, докуда простирались сад и огород (affermò il suo dominio su tutto il campo dell’orto giardino)… (р. 56).
С известным прологом «Скуки» Альберто Моравиа (1960), как и со всей литературой экзистенциализма, эти строки (и все сцены с купцом, козой и — далее — с борьбой птиц между собой) роднит ощущение абсурдности окружающего героев и рассказчика мира, «неспособного убедить меня в реальности своего существования (dell’assurdità di una realtà, …incapace di persuadermi della propria effettiva esistenza)» [Moravia, 2017, 8; Моравиа, 2010, 8].
Однако дальше начинаются различия: для художника, героя и рассказчика Моравиа «скука в собственном смысле — это своего рода неполнота или недостаточность окружающей меня реальности , ее скудость (una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà)… cвоего рода болезнь окружающих меня предметов , которые словно увядают или как бы внезапно утрачивают жизненный тонус (una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina)»19.
Моравиа говорит не про «ощущение неполноты», как перевела С. К. Бушуева [Моравиа, 2010, 7] (хотя, в конечном счете, ее перевод недалек от истины, поскольку эта неполнота в любом случае должна ощущаться субъектом повествования): перед нами — законченный образец стоически-хайдеггеровского (или, положим, поздневизантийского метохитовского) дискурса о болезни самих вещей , об их онтологической непрочности и неукорененности во все более и более обезбоживающемся мире. В нем страдает и субъект повествования. У Вольпони же — соответственно с новейшими поисками постмодернистской философии — и вовсе не остается человеческого субъекта дискурса, поскольку коза, змея и птицы таковыми не являются, а выступающая в конце убийцами и мародерами кучка хулиганов недотягивает до звания человека. Это уже даже не «моноатеизм» (выражение П. Вирильо)20 отделившихся друг от друга индивидуальностей, это — некий «зеро-атеизм» ; это мир, в котором не осталось слушающих Бога и слышащих Его (поскольку братья Лоренцетти, как и бóльшая часть горожан Сиены, умерли от чумы, а алчный купец был убит козой), а остался лишь « глад слышания слова Господня » (Ам 8:11). В таком мире человек и целые государства обречены на уничтожение или вымирание (на что и указывалось такими авторитетными для постмодернизма писателями, как Олдос Хаксли)21.
Символом такого состояния души и мира и является чума, о которой в своей немаловажной речи, помещенной в начале рассказа, Пьетро Лоренцетти говорит:
Кто знает, как появилась эта чума? Она берет свое — все, что ей ни приглянется, и никто не знает, как бороться с ней, потому что мы сдались еще до того , как ее подхватить . А теперь уже поздно. Она — внутри нашего тела, внутри каждой его мысли (concetto) и каждой части, и ее там даже больше, чем души, дарованной Богом .
Но я не могу поверить, будто чума — это Его веяние и Его воля. Полагаю, чума — это то, что ведет нас к смерти. И наша душа уже уступила ей место.
-
— Не богохульствуй!
-
— Ничуть. Я скорблю вполне по-христиански. Я не выношу той жажды и зловония, что пронзают меня. Мне жжет глаза дым от ежевичных кустов (курсив наш. — Д.М. ) (р. 51-52).
В этом отрывке из диалога двух братьев много знакового и символичного. Начнем с конца. Dei rovi — это по-итальянски «ежевичные кусты»; но в единственном числе слово этого же корня — il Roveto Ardente — означает и Неопалимую Купину (Исх 3:2 и сл.). В свете этого символа становится понятной концепция Пьетро Лоренцетти: веры в народе нет, нет воли к свершению благих дел (вспомним сцены из дантовского «Ада»), и потому душа в людях заменяется чужеродной, очевидным образом дьявольского происхождения субстанцией, а вместо Неопалимой Купины остается лишь жгущий нёбо и сознание дым от ежевичных кустов. Именно этот последний символ проливает свет на смысл речи Пьетро и на концепцию рассказа в целом. Он позволяет понять и скорбь художника по утраченному им видéнию, которое он собирается унести с собой в загробный мир (p. 51, 52).
В видéнии Пьетро город преображается: разверзаются крыши домов, размываются их контуры и падают, разламываясь, стены жилищ трубочистов и угольщиков,
-
т. е. простого люда, — после чего «и все остальные возносятся горé, чтобы созерцать прохождение по небу новой кометы, полной огня и шума» (р. 51; ср. 1 Фес 4:16–17). «А вслед за тем — и нового святого , только-только появившегося над этими землями и домами; того, кому под силу облегчить душу трубочистам и вывести их наружу из грязных дымоходов, чтобы лучше (и ничего не боясь) видеть все окружающее — и даже лучше дышать (курсив наш. — Д. М. )» (р. 51).
Очевидно, комета, в соответствии с многовековой античной, библейской и народной традициями, понимается здесь как знак (или знамение ) явления силы Божией, которое обычно сопровождается светом, поскольку Бог есть Свет (Ин 1:4; 1:9; 1:14). Памятуя о названии рассказа, можно полагать, что это видéние являло собой нечто вроде теофании, к описанию которой приложима вторая часть Пс 35:10: « во свете Твоем узрим свет » (Пс 35:10б)22. Но видéние Пьетро, которое он не успел воплотить в красках, ушло: «Мне его не хватает — и будет вечно не хватать» (р. 51). Видéние остается идеалом грядущего мироустройства (и в смысле возможного в будущем улучшения земного бытия, и в смысле эсхатологическом). Подобно граду Китежу в русской легенде, оно служит маяком, ведущим нас в ночи.
Но у его исчезновения есть и положительная сторона: его не смогут скопировать другие художники (тут надлежит вспомнить, какая конкуренция спокон веку сопровождает труды собратьев по художественному цеху!): «Они даже не узнáют, от какого преступления им суждено было удержаться (di quanta mancanza dovrebbero ritenersi privati)» (р. 52). Поэтому нет худа без добра: никто не соблазнится, ибо (и тут логика Пьетро Лоренцетти следует логике евангельских слов Спасителя) «горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф 18:7; ср.: Мк 9:42; Лк 17:1). Умирая в этом мире, братья Лоренцетти могут — и вправе — рассчитывать на жизнь вечную (тут предполагается постановка вопроса об искуплении творчеством, но его в отчетливом виде автор ставить избегает: вопрос слишком обширен для тесных рамок рассказа). Отзвуком надежды — и мысли об искупительной силе творчества — звучит реплика Амброджо, брата Пьетро: «Разумеется, вокруг нас не так уж мало святых (I santi non mancano certo intorno a noi)…» (р. 52). Имеется в виду — на написанных братьями картинах и фресках. Однако этим картинам мало что соответствует в реальной действительности, обрисовываемой в рассказе.
А тем временем вместо явления небесного Света наступает реальность земная, выгоревшая и похожая на непробудную ночь. Символическим и образным раскрытием этой реальности служат как уже рассмотренные нами сцены битвы козы и алчного купца, попрания козой змеи, так и приближающий трагическое завершение рассказа — эпизод противостояния друг другу птиц (непосредственным образом вызывающий в памяти тревожные картины из рассказа Дафны Дюморье «Птицы» (1952) и одноименного фильма Хичкока (1963)).
Поэтому колоритно и с несомненным мастерством изображенная Вольпони вечерняя битва ворон и воробьев — как, соответственно, субститутов евангельских козлищ и овнов (Мф 25:31–46) — приобретает в «Источнике» близкое к эсхатологическому значение. Начинается все вроде бы невинно, но с ноткой тревоги:
Пока коза отходила от изгороди, несметная стая воробьев, исполненных ярости, ворвалась в самый центр контролируемой ею территории (р. 58).
С героями происходит то же, что и (по наблюдениям Р. Луперини) в вышедшем после «Источника» романе «Столичные мухи» (1989) — они «дезобъективированы, у них больше нет внутреннего мира» [Luperini, 2001, 242], да и внешнее существование прерывается смертью. На протяжении второй половины рассказа действуют почти исключительно представител и мира животного (коза), пресмыкающихся (змея)
и пернатого (воробьи и ворóны) — не считая разбойников, убивающих козу в самом конце. Зато страсти, не уступающие по накалу страстям людей, предицируются (как сказал бы логик) в художественном высказывании автора именно представителям фауны. Это тоже прием, причем, помимо средневековых басен о животных и «Романа о Лисе», недалеко уходящий от аллегорических поучений Ветхого Завета относительно чистых и нечистых животных (напр., Лев 11; Втор 14:3–21).
Все покрывается пылью; подобно птицам в рассказе Дюморье, влетевшим сквозь окна в детскую комнату в доме Ната Хокена, часть воробьев впархивает в конюшню (р. 58). После этого сверху подлетает «стая черных ворон» (р. 58), готовясь броситься на воробьев; те, визжа, сплочают свои ряды — и начинается бой (р. 58–59), в ходе которого обе стороны проявляют напористость и мужество. Сам бой в воздухе — под открытым небом и в конюшне — описан невероятно зрелищно и эмоционально, что лишний раз дает повод говорить об «эмоциональном мышлении» автора, вслед за И. М. Бланко, Дж. Рабони и Э. Дзинато [Zinato, 2001, 164].
В пророческом сне писателя Давида Мартина о смерти его друга и покровителя Педро Видаля из романа Карлоса Руиса Сафона «Игра ангела» (2008) стая черных птиц (вероятно, галок или ворон) упоминается в характерном контексте литературы нуара:
Взлетела стая черных птиц, и я бросился бежать, петляя по дорожкам необъятного города мертвых. Только отдаленные рыдания служили мне ориентиром в поисках выхода, и я сумел ускользнуть от темных фигур, то и дело заступавших путь: со стенаниями они умоляли забрать их с собой и спасти из царства вечной тьмы (курсив наш. — Д. М. ) [Сафон, 2016, 224–225].
В отличие от героя Сафона, в рассказе Вольпони просить и умолять уже некому — да и Бог после видения, бывшего Пьетро Лоренцетти, более не спешит открыться грешному люду, предоставляя действовать «братьям нашим меньшим». В целом войско ворон рассеяло более половины стаи воробьев, после чего отдельные ворóны начали преследовать индивидуальные цели, атаковав все деревья в саду. Коза же, как и в случае со змеей, бодала рогами падавших с неба птиц и старалась затоптать, т. е. буквально сжить со света усопших (собственно — павших, quelli caduti; р. 59). Длилась эта баталия (il combattimento) до тех пор, пока с наступлением ночи не угас последний лучик света (р. 59–60). Тогда «тьма удержала каждого сражающегося с той и другой стороны на том месте и даже в том действии, в каком застала» (р. 60). Эти слова заставляют вспомнить речение Господа, сохраненное сщмч. Иустином Философом († ок. 166): «В чем вас застану, в том и буду судить» ( S. Justinus Philosophus et Martyr. Dialogus cum Tryphone Judaeo, 47 // PG. 6. Paris, 1857. Col. 575C-580A, col. 580A).
Надо полагать, что дух и смысл речения Господня был Вольпони достаточно хорошо известен через посредство устных и письменных традиций христианской культуры второй половины ХХ в. Опять же, место Бога как Судии в антиутопической концепции рассказа занимает тьма как атрибут антигероя (или контрсферы ) — Фауста, Воланда… Завершение повествования выступает отрицанием видéния Пьетро Лорен-цетти, показывающим, что (на взгляд автора) в условиях земной действительности подобного рода явлениям Бога и святых не суждено осуществиться.
Итак, битва пернатых принимает поистине исполинские — в масштабах рассказа — масштабы. Описанное напоминает иллюстрацию к целому ряду сюжетов из Писания, начиная от падения Денницы (как известно, «сына зари»; Ис 14:12) до поучения св. ап. Павла: «наша брань… против начальств, против властей, против миро-правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф 6:12).
Не подлежит сомнению ни аллегоричность создаваемой автором картины, ни амбивалентность образа козы — «властителя сада» покойных Лоренцетти. Именно после битвы пернатых проявляются ее негативные черты: она в ярости высекает копытами искры из камней, когда в утреннем свете становится явным тот урон, что птицы нанесли саду, в котором она проживала, — «вплоть до его полного изничтожения (fino a snaturarla), исказившего до невыносимости многие его черты» (р. 60). Те коннотации если не Рая, то места отдохновения и уюта, которые этому саду хоть в какой-то степени еще были присущи на фоне чумы, канули в Лету. А для козы начался последний — мученический — путь. А ведь первым людям, встретившим ее по пути в город, неторопливо вышагивавшую в лучах небесного светила, она показалась «символом того чуда, что спасло их от чумы» (р. 61)! Это сопоставление также оправдывает те богословские аналогии к образу козы, которые мы приводили. А о непостоянстве людской природы нет нужды особо вспоминать.
Чтобы привести несколько, быть может, неожиданную аналогию, отметим, что на сходном мирочувствии и на близком использовании поэтических средств строятся такие фильмы Феллини, хронологически предваряющие «Источник» Вольпони, как «Казанова» (1976) и «Город женщин» (1980) с их поэтикой, так сказать, отмирания души как у художника-индивидуума (Казанова), так и у общества в целом («Город женщин») (см.: [Долговы, 1995, 81–95]). И здесь Вольпони во многом наследовал и развивал мотивы великого режиссера. Вообще же дух антиутопичности, стремительно преодолевая границы между мирами авангарда и постмодерна, охватывает собой весь ХХ в., и итальянские классики новейшей литературы и искусства — не исключение. В этом смысле о. Антонио Сабетта говорит как об одной из характерных черт сознания постмодерна об «опустошении будущего» [Sabetta, 2018, 2]23, связанном с крушением рационалистических надежд.
В отличие от козы, воробьи и ворóны под лучами солнца разлетались радостными и довольными. Так, ворóны «больше не смотрели ни на воробьев, ни даже на землю, устремляясь ввысь — в небо — и совершенно забыв как о войне (della guerra), занявшей весь прошедший день, так и о ночи ожидания» (р. 60). С этим симпатизирующим ворóнам описанием так и хочется сопоставить наблюдение Милорада Павича все из того же «Хазарского словаря»: в отличие от животных и пернатых, «человек дольше помнит не добро, а зло» [Павич, 2001, 47]. И об этом тоже написан мудрый рассказ Паоло Вольпони.
И все-таки… Дает ли он надежду читателю — и героям? На воскресение, например, братьев Лоренцетти в Царствии Небесном? Ввиду общей амбивалентности фабулы и сюжета нам представляется единственно возможным ответ: а почему бы и нет? Учитывая же явно выраженные у Вольпони христианские коннотации, позитивный ответ следует признать по меньшей мере допустимым. Во всяком случае, это упование у Вольпони хотя стилистически и звучит в приглушенном регистре (на фоне той же трагедии козы), все-таки не менее различимо, чем чаемое лирическим героем воскресение Лючии в «Осенней истории» Томмазо Ландольфи (1946)24 — романе, своим общим настроем и самим лаконичным построением фраз, как кажется, оказавшем воздействие на автора.
Список литературы О библейских аллюзиях и прототипах в рассказе Паоло Вольпони "Источник": к уяснению специфики христианской философии автора
- Алыпова, Бочкарева (2009) — Алыпова А.О., Бочкарева Н.С. Библейские мотивы в романе А. Трокки «Молодой Адам» // Пограничные процессы в литературе и культуре. Сборник статей по материалам Международной научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Василия Каменского (17-19 апреля 2009 г.) / Общ. ред. H. С. Бочкаревой, И. А. Пикулевой. Пермь: Пермский гос. ун-т, 2009. (Мировая литература в контексте культуры). С. 48-50.
- Бальтазар (2006) — Бальтазар Г. У. фон. Пасхальная тайна. Богословие трех дней / Пер. с нем. В. Хулапа. М.: ББИ св. апостола Андрея, 2006. (Современное богословие).
- Долговы (1995) — Долгов К.К., Долгов К.М. Ф. Феллини, И. Бергман: Фильмы. Философия творчества. М.: Искусство, 1995. (Гении мирового кино).
- Жолковский (2011) — Жолковский А. К. Блистающие одежды // Жолковский А. К. Очные ставки с властителем. Статьи о русской литературе. М.: Изд-во РГГУ, 2011. С. 43-52, 472-478.
- Ландольфи (1999) — Ландольфии Т. Осенняя история / Пер. с ит. Г. Киселева // Ландольфии Т. Жена Гоголя и другие истории. Избранное / Пер. с ит.; сост. Г. Киселев. М.: Аграф, 1999. С. 26-128.
- Макаров (2019) — Макаров Д.И. Сад расходящихся судеб. Средневековая традиция в современной литературе: Кржижановский, Вольпони, Барикко, Моччиа. М.: Аграф, 2019.
- Моравиа (2010) — Моравиа А. Скука / Пер. с ит. С. К. Бушуевой. М.: АСТ: Астрель, 2010. (Книга на все времена).
- Павич (2001) — Павич М. Хазарский словарь: Роман-лексикон. Женская версия / Пер. с серб. Л. Савельевой. СПб.: Азбука-классика, 2001.
- Сафон (2016) — Сафон К.Р. Игра ангела / Пер. с исп. Е. Антроповой. М.: АСТ, 2016. (Эксклюзивная классика).
- Хаксли (2021) — Хаксли О. И после многих весен [1939] / Пер. с англ. А. Зверева. М.: АСТ, 2021. (Эксклюзивная классика).
- Эко (2016) — Эко У. Между Ла-Манчей и Вавилоном [1997] / Пер. с ит. С. Сидневой // Эко У. О литературе: эссе / Пер. с ит. С. Сидневой. М.: АСТ: CORPUS, 2016. С. 135-150.
- La Sacra Bibbia — La Sacra Bibbia. URL: https://www.vatican.va/archive/ITA0001/_P10F.HTM (дата обращения: 30.01.2023).
- Caesar (2008) — Caesar M. Contemporary Italy (since 1956). Morselli, Volponi and others // The Cambridge History of Italian Literature / Ed. by P. Brand, L. Pertile. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 561-606.
- Carneiro (2012) — Carneiro L. Dispositivos e Subjectivaçâo. Para uma ontologia crítica do contemporáneo. Dissertaçâo. Porto: Universidade do Porto, 2012.
- Guillaume de Saint-Thierry (2011) — Guillaume de Saint-Thierry. Exposé sur l'épître aux Romains. T. I (livres I-III) / Texte latin (CCM 86/ A) par P. Verdeyen, s.j.; intr., trad. et notes par Y.-A. Baudelet, o.s.b. Paris: Les Éditions du Cerf, 2011. (Sources Chrétiennes, 544).
- S. Justinus Philosophus et Martyr. Dialogus cum Tryphone Judaeo, 47 // PG. 6. Paris: Apud J.-P. Migne editorem, 1857. Col. 575C-580A.
- Landolfi (1991) — Landolfi T. Racconto d'autunno // Landolfi Tommaso. Opere / A cura di I. Landolfi. Milano: Rizzoli, 1991. T. I (1937-1959). Р. 437-515.
- Luperini (1990) — Luperini R.. L'allegoria del moderno. Roma: Editori riuniti, 1990.
- Luperini (2001) — Luperini R.. L'allegoria e la rappresentazione del postmoderno // Zinato E. Volponi. Palermo: Palumbo, 2001. (La scrittura e l'interpretazione, 15). P. 242-244.
- Mediae latinitatis lexicon (1976) — Mediae latinitatis lexicon minus / Comp. J. F. Niermeyer; A Medieval Latin-French/ English Dictionary; Abbreviationes et index fontium / Comp. C. van de Kieft, G. S. M. M. Lake-Schoonebeek. Leiden: Brill, 1976.
- Mesárová (2018) — Mesárová E. Tra letteratura e verità: immaginario landolfiano nel "Racconto d'autunno" // Studia Polensia. 2018. Vol. 7. P. 31-44.
- Moravia (2017) — Moravia A. La noia / Nota critica di A. Grandelis. Milano; Firenze: Giunti Editore, 2017. (Classici contemporanei) [edizione digitale].
- Origenis Homiliae in Leviticum. Homilia II // PG. 12. Paris: Apud J.-P. Migne editorem, 1857. Col. 411D-422D.
- Sabetta (2018) — Sabetta A. Beyond the reductivism of postmodern reason. From meaningless truth to truth as meaning. Speech given at the Symposium "Fides et ratio. Twenty years later" (Zagreb, 14.09.2018). URL: https://www.academia.edu/37554954/Beyond_the_reductivism_ of_postmodern_reason_From_meaningless_truth_to_truth_as_meaning (дата обращения: 25.01.2023).
- Treccani — Vocabolario Treccani. URL: https://www.treccani.it/vocabolario/monacchia/ (дата обращения: 30.01.2023).
- Volponi (2017) — Volponi P. La fonte // Volponi P.I racconti / Ed. E. Zinato. Torino: Einaudi, 2017. (Letture Einaudi, 71). P. 49-62.
- Zinato (2001) — Zinato E. Volponi. Palermo: Palumbo, 2001. (La scrittura e l'interpreta-zione, 15).