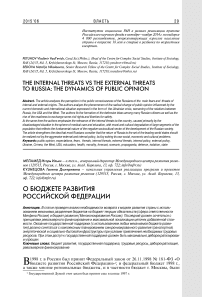О бюджете развития Российской Федерации
Автор: Меламед Игорь Ильич, Кузнецова Галина Дмитриевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье проведен анализ необходимости возврата к модели развития страны с использованием механизма разделения бюджетов на бюджет текущих обязательств (сфера ответственности Минфина России) и бюджет развития (Минэкономразвития России). Последний должен сочетаться с принципами револьверного финансирования и максимальной локализации цепочек добав ленной стоимости. Оказание государственной поддержки (с использованием любых механизмов бюджета развития) должно сочетаться с комплексным планированием синхронизированного развития транспортной, энергетической и социально-бытовой инфраструктуры при условии привлечения необходимых трудовых ресурсов. При этом доступ к государственной поддержке должен быть максимально дебюрократизирован и упрощен.
Бюджет развития, государственная поддержка, трудовые ресурсы, дебюрократизация, револьверное финансирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170167983
IDR: 170167983
Текст научной статьи О бюджете развития Российской Федерации
В1998 г. в России был принят Федеральный закон от 26.11.1998 № 181-ФЗ «О бюджете развития Российской Федерации»1; и федеральный бюджет 1998 г., а также многие региональные бюджеты, и в частности бюджет г. Москвы, были приняты с учетом выделения в них бюджета развития. Основная идея такого подхода состояла в том, что федеральный бюджет разбивался на две части – бюджет текущих обязательств и бюджет развития. За расходование средств первой части отвечал Минфин России, а за расходование и пополнение средств второй части – Минэкономики России.
Работа в направлении выделения специальных средств на развитие страны велась, можно сказать, с самого начала рыночных реформ. Ее основными этапами были проведение инвестиционных конкурсов по схеме 20 × 80 (на 20% федеральных средств заявитель проекта добавлял 80% своих), указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1928 «О частных инвестициях в Российской Федерации» и серия постановлений Правительства РФ 1995–1997 гг., вводивших конкретные механизмы использования средств федерального бюджета в инвестиционном процессе. Совершенно естественно, что такое разделение бюджетов порождало сопротивление Минфина России, которое удавалось преодолеть только на уровне президента и председателя правительства РФ. Поэтому сразу после кризиса 1998 г. средства, предназначавшиеся для бюджета развития (и не только они), начали направляться в резервный фонд, а о бюджете развития перестали даже упоминать.
При этом большинство механизмов, которые планировалось использовать в рамках бюджета развития (особые экономические зоны, государственные гарантии, инвестиционный фонд и др.), были реанимированы и продолжают использоваться до настоящего времени под расплывчатым названием «механизмы государственночастного партнерства».
Важной частью бюджета развития должна была стать федеральная целевая программа (ФЦП) «Сокращение различий в развитии субъектов Российской Федерации». Ее замысел состоял в том, что федерация выделяет деньги на снятие инфраструктурных ограничений развития (транспортная, энергетическая, инженерная, социальная инфраструктуры) тех регионов, которым эти ограничения не дают выйти на темпы развития, соответствующие средним по стране. По существу в этом и был сформулирован главный принцип государственной региональной политики – помогать регионам преодолевать ограничения развития. К сожалению, обсуждаемый сейчас проект нового указа Президента РФ «Об основах региональной политики» опять ограничивается какими-то невнятными сентенциями о сбалансированном развитии регионов.
Надо заметить, что все частные механизмы бюджета развития (ОЭЗ, инвестиционный фонд и др.) оказались не слишком эффективными в отсутствие самого главного – разделения бюджетов.
Конечно, у Минфина России в борьбе с бюджетом развития всегда были два аргумента:
– не хватает денег на выполнение текущих обязательств;
– все возникающие излишки средств надо размещать в резервные фонды на случаи кризисов.
Здесь можно заметить лишь одно: если не будет развития страны, то не будет и роста бюджета. Сокращая расходы, можно выжить, но развиваться на одной экономии невозможно.
В законе 1998 г. формировать и пополнять бюджет развития планировалось в первую очередь за счет доходов от приватизации федеральной собственности.
Кроме того, предполагалось создать гарантийный фонд для привлечения заемных средств для реализации эффективных инвестиционных проектов.
Порядок отбора проектов и предоставления государственных гарантий определялся известным постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470, которое до сих пор не утратило актуальности и послужило образцом для многих последующих документов по оценке эффективности реализации проектов и программ.
Основным механизмом пополнения бюджета развития, хотя это и не было записано ни в одном из документов, предполагалось сделать револьверное финансирование. Наиболее последовательно этот подход был реализован в ФЦП социально- экономического развития Ростовской области на 1998–2001 гг., утвержденной постановлением Правительства РФ от 8 января 1998 г. № 21.
В соответствии с принципом револьверного финансирования на первом этапе отбирались для реализации несколько быстро реализуемых инвестиционных проектов, которым оказывалась федеральная поддержка в соответствии с механизмами бюджета развития. После их реализации часть дополнительных налогов поступала в бюджет развития и использовалась для реализации следующих проектов. В ФЦП развития Ростовской области предполагалось оставлять эти дополнительные налоги в фонде развития Ростовской обл. и после 2001 г. уже не выделять на поддержку развития области средства из федерального бюджета. Как образно выражались в то время, ставилась задача «разбудить инвестиционный потенциал Дона». Надо отметить, что в определенной степени это удалось сделать. Валовой региональный продукт Ростовской обл. в 2013 г. по отношению к 1997 г. вырос более чем в 2,7 раза при среднероссийском росте в 2,0 раза.
Принцип револьверного финансирования в ФЦП социально-экономического развития Республики Татарстан на 2001–2006 годы был дополнен условием максимальной локализации на территории Республики Татарстан цепочек добавленной стоимости. Это означало, что предприятие, получившее государственную поддержку в рамках ФЦП, должно было заказывать сырье, комплектующие, подготовку специалистов и даже брать кредиты на территории Татарстана. Высокая диверсификация экономики республики позволяла строить цепочки, в которые входили до 5 региональных организаций. Тот эффект, который имела эта ФЦП, и тот импульс развития, который был придан республике этой программой, позволяют Татарстану и сегодня, да и наверное позволят еще много лет быть лидером российской экономики.
В 2014 г. Россия столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны развитых государств, в первую очередь США и Европейского союза, которые ввели против России так называемые санкции и спровоцировали резкое падение цен на нефть. Это привело к экономическому кризису в развитии страны и существенному падению бюджетных поступлений.
Основной мерой реагирования правительства России на эту ситуацию стала программа сокращения расходов. При этом совершенно очевидно, что, сокращая расходы, в т.ч. за счет зарплат, мы сокращаем платежеспособный спрос и лишаем страну всякой возможности выйти из кризиса за счет внутренних источников роста.
Антикризисная программа правительства направлена лишь на то, чтобы пережить кризис (санкции и низкие нефтяные цены) с минимальными потерями для резервных фондов и затем снова начать развиваться за счет внешних источников, т.е., грубо говоря, за счет высоких цен на углеводороды.
Альтернативой этому подходу может служить возврат к принципам бюджета развития в сочетании с револьверным финансированием и локализацией на территории страны цепочек добавленной стоимости (что и означает реальное импортоза-мещение). Это не отменяет развития кооперации с развивающимися странами и утверждения России как одного из лидеров развивающегося мира.
Такой подход предполагает аккумулирование и вложение средств в конкретные, хорошо подготовленные, быстро реализуемые и быстро окупаемые инвестиционные проекты, позволяющие увеличить доходы бюджетов и массу денег в экономике (например, за счет высокооплачиваемых рабочих мест), что даст возможность перейти к следующим проектам и обеспечить устойчивый рост экономики и занятости населения.
Вопрос в том, располагает ли Россия сегодня такими проектами? Ответ на этот вопрос положительный, и этих проектов немало, несмотря на то, что доверие к участию государства в реализации проектов бизнеса серьезно подорвано, в первую очередь за счет бюрократизации процедур и все усложняющихся наборов документов по доказательству эффективности расходования средств федерального бюджета. Одна необходимость прохождения технологического и ценового аудита всех проектов с объемом финансирования более 1,5 млрд руб. способна отбить желание иметь дело с государством. Не менее яркий пример – постановление Правительства
РФ от 30 октября 2014 г. № 1119, определяющее порядок отбора регионов для федеральной поддержки создания или расширения индустриальных парков и технопарков. Если страна реально хочет развивать бизнес в этих кризисных условиях, надо перестать идти на поводу у Минфина России, резко упростить доступ к федеральному участию, а для этого отделить от бюджета текущих обязательств бюджет развития. В качестве примеров быстро окупаемых и высокоэффективных проектов можно назвать:
– создание зерновых и контейнерных терминалов в бухте Троица на юге Приморского края с развитием транспортного коридора Приморье-2 для перевозки зерна и грузов в контейнерах между северо-восточными и южными провинциями Китая, а также странами АТР. Подключение к этому проекту государства способно обеспечить финансовый оборот более 2 млрд долл. США только за счет перевалки грузов в порту;
– создание транспортно-логистического комплекса в сочетании с развитием промышленности и сельхозобработки в районе строящегося моста через Амур Нижне-Ленинское-Тунцзян;
– проекты переработки техногенных месторождений, многие из которых намного богаче по ценным компонентам, чем аналогичные природные. Примерами могут служить месторождения редких металлов Забайкальского и Приморского краев, Иркутской и Сахалинской обл.;
-
– проекты в области ядерной энергетики и создания космической инфраструктуры и средств выведения;
-
– проекты производства вооружений и военной техники.
Здесь умышленно представлены проекты, реализация которых может производиться с привлечением инвесторов из стран развивающегося мира, а также имеющие большой экспортный потенциал в этих странах.
Источниками средств для реализации быстро окупаемых проектов первого этапа могут служить средства фонда национального благосостояния. Вложения в первоочередные проекты способны привести к быстрой отдаче и запустить реальный механизм роста экономики. Вложения в долговременные, возможно даже не окупаемые инфраструктурные проекты типа строительства ЦКАД, желательно начинать реализовывать не в сложный период кризиса, когда стране крайне необходимы быстрые валютные поступления и организация производства остродефицитных товаров, ранее закупаемых за границей.
С развитием и модернизацией железных дорог Восточного полигона (Транссиб и БАМ) ситуация не столь проста. Увеличение пропускной и провозной способности этих железных дорог способно активизировать реализацию многих подготовленных проектов бизнеса и обеспечить быстрый мультипликативный эффект. Но при этом надо понимать, что 10 млн т, которые страна реально может добавить к провозной способности БАМа до 2020 г., должны быть сразу же привязаны к конкретному проекту освоения месторождения или к группе проектов обрабатывающей промышленности, потому что уже сегодня бизнес готов выставить на БАМ до 50 млн т только угля. При этом в условиях такого дефицита транспортной инфраструктуры все разговоры о необходимости конкуренции выглядят насмешкой над здравым смыслом. Проще всего поднять провозную способность на участке Улак – Ванино и по мере ее увеличения обеспечивать поставки на экспорт качественного угля с Эльгинского месторождения, что также снимает головную боль с проблемой долгов Мечела. Эльгинское месторождение вместе с необходимым примыканием к БАМу (Эльга – Улак, 321 км) сегодня полностью готово к эксплуатации. Но понятно, что в этом случае многие другие проекты с большими объемами экспорта угля и железной руды через порт Ванино придется на время отложить.
Также тщательно надо увязать проекты бизнеса с проектами модернизации Транссиба, имея в виду, что кроме объемов перевозок на стадии эксплуатации требуются даже большие объемы перевозок на стадии строительства, которые могут потребовать модернизации отдельных участков Транссиба (например, Восточной нефтехимической компании необходимо ежегодно около 7 млн т строительных грузов в течение нескольких лет). При этом реализация проектов бизнеса должна быть синхронизирована с развитием не только транспортной, но и энергетической инфраструктуры, а также с созданием всего необходимого для жизнедеятельности как строителей, так и затем работников предприятий.
Игнорирование такой синхронизации уже привело к многолетней задержке с освоением Удоканского медного месторождения (отсутствие энергетики) и трудностям со строительством космодрома «Восточный» (отсутствие жилья).
Все это говорит о том, что в условиях кризиса при громадном дефиците инфраструктуры, а также трудовых ресурсов (как в количественном, так и в качественном отношении) плановое начало в вопросах реализации крупных проектов должно быть усилено. Развитие конкурентной среды и создание условий для свободного развития бизнеса должны быть при этом усилены для среднего и малого бизнеса, что подразумевает максимальное освобждение их от опеки надзорных органов и упрощение доступа к мерам государственной поддержки.
При этом, говоря об усилении планового начала при реализации крупных проектов, надо иметь в виду, что речь здесь идет не столько об отраслевом планировании, сколько о территориальном, поскольку лишь координация усилий многих министерств и организаций в условиях действия специальных режимов позволяло до настоящего времени реализовывать крупномасштабные проекты, такие как освоение Сахалинского шельфа, строительство ВСТО, празднование 1000-летия Казани, Олимпиада в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке, строительство космодрома «Восточный». Все это говорит о том, что находящийся в стадии согласования большой пакет документов, регламентирующий территориальное (пространственное) планирование и развитие, должен быть проработан максимально тщательно. Пока этого, к сожалению, не происходит.
Подводя итог, можно выделить следующую простую мысль: необходимо вернуться к модели развития страны с использованием механизма разделения бюджетов на бюджет текущих обязательств (сфера ответственности Минфина России) и бюджет развития (Минэкономразвития России). Последний должен сочетаться с принципами револьверного финансирования и максимальной локализации цепочек добавленной стоимости.
Оказание государственной поддержки (с использованием любых механизмов бюджета развития) должно сочетаться с комплексным планированием синхронизированного развития транспортной, энергетической и социально-бытовой инфраструктуры при условии привлечения необходимых трудовых ресурсов. При этом доступ к государственной поддержке должен быть максимально дебюрократизирован и упрощен.